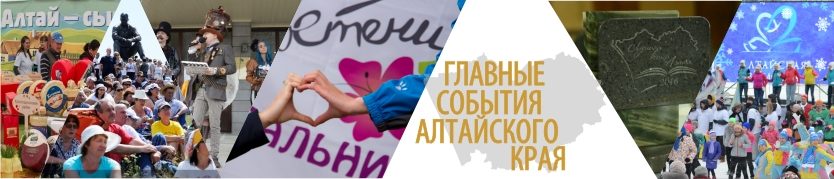Боженко С.А. ПУТЬ К ЖИЗНИ, или РЯДОМ С МАЭСТРО
| Источник: Материалы переданы автором |
Боженко С.А. ПУТЬ К ЖИЗНИ, или РЯДОМ С МАЭСТРО Воспоминания о художнике В.Ф. Рублеве |
Home |
СОДЕРЖАНИЕ:
Вступление или Окно для любознательных
Первое знакомство или В плену ложных идей
Забавные времена или Погоня за ускользающим движением
Вечный огонь или Как победить монстра
Парковая скульптура или Дурной пример Гоголя
Неочевидные истины или Почему доброжелатели правы
Свобода духа или Что делать с женщиной
Голова вождя или Ликбез для идеологов
Памятник Шукшину или Победителей не судят
Дом архитектора или Кое-что о единомышленниках
Дом Архитектора или Что делать цветам
Идеи подсознания или Зачем нырять в бездну
Дом Архитектора или Рядом с маэстро
Живая натура или Зачем форсировать чувственность
Тракторный завод или Чем велик человек
Уроки рисования или Неумелое умение мудреца
Чужая слава или Мальчишка среди стариков
Персональная выставка или Поиск аромата жизни
Надгробие тезке или Как заглянуть в пропасть
“Жницы” или Ступеньки к пластическим идеям
Флейта или Откровение по ту сторону слов
Последняя тайна или Зачем быть вторым
Вступление или Окно для любознательных
Когда я беру в руки чистый лист бумаги, я вспоминаю Рублева. Художника — Василия Федоровича Рублева. Почему так? Отчего это? То ли от мучительного напряжения в единоборстве с неуловимой линией? То ли от сладостного ощущения покорения пространства листа? А может оттого, что лист бумаги — это окно. Окно, в котором я вижу вдохновенный лик Рублева. Стыжусь сказать — друга. Боюсь сказать — учителя.
Чем более отдаляется последняя встреча с ним, тем ярче высвечивается масштаб его личности. Тем явственнее его роль в художественном процессе. И тем чудовищнее вакуум ниши, которую он занимал в этом процессе…
Воды Леты вымывают легкую бытовую взвесь из золотоносного песка его жизни. Остается главное. Остается возвышенность Духа. Точнее, ощущение причастности к духовному воспарению.
И вот я взял в руки чистый лист бумаги. Чтобы изложить на ней воспоминания о Рублеве. Во всяком случае, то, чем мне захочется поделиться с любознательным читателем.
Я думаю, достаточно ли воспроизвести события прошедших дней. Или прибегнуть к художественному вымыслу? И я решил, вымысла не должно быть. И не будет. А будет сдержанно-ироничное авторское повествование о дорогом сердцу человеке. И абсолютно достоверная прямая речь персонажей. Что противоречит официальной теории мемуарного жанра.
Ну и черт с ней!
Первое знакомство или В плену ложных идей
С Василием Рублевым я познакомился в конце 70-х годов. Незадолго до празднования 250-летия Барнаула.
Отцы города готовили всенародное торжество. Архитекторы и художники были озадачены проектированием патриотических объектов. Это были дворец Хлеборобов и монумент Целиннику, памятник бойцам стройотрядов и монумент комсомольской славы. Среди них оказался монумент строителю. Именно так — с большой буквы.
Надо заметить, что работа над подобными сооружениями велась соответственно духу времени. Без градостроительного осмысления. Заказы на монументальные произведения поступали в Алтайский худфонд. Затем распределялись между художниками. Скульптор лепил какого-нибудь Геракла с серпом или молотом. После чего приглашался архитектор со стороны. Чтобы придумать к скульптуре приличествующий случаю постамент. С памятниками вождям мирового пролетариата было все ясно. А вот работа с монументами-аллегориями частенько заходила в тупик. И дело не в профессиональной слабости творцов. Просто в городе, заставленном типовыми многоэтажками, не оставалось места для крупных художественных произведений. Тем более — аллегорий. Это понимали многие. Кроме штатных идеологов. Такая вот преамбула.
Почетная миссия создания монумента Строителю была поручена беспартийному Рублеву. С одной стороны этот факт характеризовал руководителей худфонда как прогрессивно мыслящих. С другой — как политически незрелых. Я думаю, дело было проще. Члены партии были заняты более “серьезной” работой. Они ковали головы Барнаульских революционных активистов. За деньги. Но я отвлекся.
Рублев разработал эскиз монумента. Точнее, модель из гипса. В масштабе один к десяти. С этой моделью он явился в гости к архитекторам. К нам то бишь.
К тому времени я товарищами уже имел опыт проектирования монументов. Это были Владимир Ли и Виктор Четошников. Первый умел клеить бумажные шары из одной выкройки. Второй чертил тушью линии тоньше беличьего волоска. Втроем мы систематически унижали старшее поколение местных зодчих. Видимо, поэтому Рублев появился у нас. Вчетвером мы расселись на столах с чертежами. Гость оказался интересным собеседником с внешностью иконного святого и замашками иронизирующего эстета. Кроме того, он напоминал заметно подросшего Пьера Ришара. Когда улыбался. Потом он развернул модель монумента.
Изможденный, но широкогрудый Строитель, подняв громадный мастерок, энергично шагал навстречу ветру. Или даже — светлому будущему. Левая рука — на отлете. Видимо, символизировала крыло. Или состояние духовного воспарения. Формальное решение скульптуры напоминало фигуру рабочего из знаменитой Мухинской двухфигурной композиции. И удивляло воображение зрителей силой собственной динамики.
Мы не ожидали такой мощной поступи социалистического реализма. Особенно в провинциальном Барнауле. Тем более, что Витя Четошников оказался воинствующим оптимистом. Он предложил покрыть мастерок гиганта сусальным золотом. Вова Ли всегда был сторонником более изящных решений. Поэтому предложил вмонтировать в мастерок зеркальце. Или фонарик. Видимо, для освещения дороги в светлое будущее. А может быть в ближайший гастроном. Я же вносил разлад в творческую дискуссию. Подозревал, что в руке у Строителя не мастерок, а кельма.
Так мы и познакомились. И согласились решить архитектурную головоломку — найти точное место, размеры и ориентацию будущего творения. При изучении предложенного участка выяснилось, что монумент должен быть очень высоким. Дабы зрительно не “потеряться” на фоне девятиэтажек. Рублев согласился, что единственный выход — поставить скульптуру на высоченный постамент. Родилась идея сложной вертикали из металлопроката. И работа закипела. Мы приготовили макет для Градостроительного совета.
И вдруг! О, это спасительное слово “вдруг”! И вот тут-то обнаружилась интересная деталь. При просмотре монумента с ближних точек неумолимо появлялся ракурс, когда левая рука Строителя проецировалась между его широко раздвинутых ног. Порождая эротические ассоциации. Или того хуже — порнографические!
Это был крах! Беспартийный Рублев ознакомился с нашим открытием. После чего совершенно остыл к идее увековечения заслуг советских строителей перед партией и народом. Тем более, на фоне безобразно-панельного дома. С нижним бельем на верхних балконах. И с верхним на нижних.
Мы откупорили бутылку с вином. Переделывать фигуру Строителя Рублев не захотел. В ней он видел полностью завершенную, пластически яркую вещь. Когда бутылка опустела, он сказал:
— …От великого до смешного один шаг… Я предвидел нешто подобное… — Он так и говорит “нешто” с мягким “ш” в середине слова.
Оказалось, что этот шаг сделал злополучный Строитель светлого будущего.
Прогрессивно мыслящие деятели худфонда и худсовета все же оказались политически незрелыми. Хотя тоже сделали соответствующие шаги. Не говоря об оргвыводах.
Так состоялось мое знакомство с Василием Федоровичем Рублевым. И так не состоялся монумент Строителю в Барнауле.
Забавные времена или Погоня за ускользающим движением
В 1980-м году общественность Барнаула праздновала юбилей города. Торжественно открывался памятник Ивану Ползунову — российскому изобретателю парового двухтактного двигателя. Желающие могли видеть воочию известного скульптора Бродского. Автора почти всех памятников Ленину в Сибири. Вокруг него терлись пышно бородатые художники. И гладко бритые архитекторы. Из официальной свиты.
На центральной площади проводился смотр детского творчества на асфальте. Здесь мелькали художники рангом ниже: Тимуш, Ашкинази, Пастушкова, Осиночкин. И Рублев среди них. Обсуждались рисунки. Присуждались призы. Рублев неистово заступался за претендента, нарисовавшего Мальчиша-Кибальчиша с неестественно вывернутой рукой. Он горячился:
— Посмотрите, какое широкое движение! Так рисовать может только талант!
И тут я вспомнил недавно виденный памятник. В парке Меланжевого комбината. На месте захоронений. Это была вертикальная гранитная стела, опоясанная летящей лентой. Или флагом. Из кованой меди. Широко летала в пространстве эта лента! Как рука Мальчиша из Гайдаровской сказки, Автором ощущения полета оказался все тот же Василий Рублев.
Я иногда размышляю. Забавные были времена. Сплошь и рядом проектировались монументы. Более того, нередко возводились. Обеспечивая хлебом творческих работников. И засоряя сознание остальному большинству. Как позже выяснилось.
Однажды я участвовал в конкурсе на лучший проект монумента основателям города Заринска. Название-то какое! И предложил Рублеву сотрудничество. Созвонившись о встрече в его мастерской. Тему эту мы обсудили. Но от участия в конкурсе он отказался. То ли ему было некогда, то ли свежи были воспоминания о крахе эротического Строителя. А может быть, устал от победоносной поступи развитого социализма.
Я предпринял последнюю попытку уговорить Рублева на участие в конкурсе. Тогда он обнародовал совершеннейшую ересь. С точки зрения марксизма-ленинизма. Он произнес:
— Утверждать надо не идею. И не цель. А жизнь, момент, сущность… Цель — ничто, движение — все.
Потом заулыбался и сказал:
— Хочешь, покажу свои рисуночки.
Он так и произнес: “рисуночки”. Уничижительно. И стал перекладывать серые листы бумаги.
Это были наброски черным соусом. Иногда тушью. На листах жили линии. Самоценно. Превращаясь в графические композиции. Образуя человеческие формы. Обтекаемые светом. Дразнясь реальностью, пугая божественностью.
Рублев наблюдал за моей реакцией. И довольно посмеивался:
— Во-о-от чем надо заниматься…
Я не дал себя в обиду. И вставил, что все, что я видел в чем-то напоминает архитектурное творчество. Те же усилия по организации пространства. Или что-то в этом роде. Но глаз от Рублевских работ оторвать не мог.
Хозяин мастерской тоже улыбался. Его тоже радовали собственные рисунки. Точнее, жизнь на клочках бумаги. Он продолжал:
— … Главное, почувствовать движение формы… Увидеть это движение…
Я смотрел и думал, моя архитектура — это тоже движение формы. А моя работа — погоня за этим ускользающим движением. Откуда он все знает?
Вечный огонь или Как победить монстра
История Великой Отечественной войны насчитывает более двухсот повторений подвига Александра Матросова. Причем, некоторые были совершены чуть ранее. А зафиксированы чуть позже. Но это к делу не относится. Герой Советского Союза Владимир Смирнов из Барнаула тоже накрыл своим телом амбразуру.
Василий Рублев — автор памятного знака в честь этого героя. Вместе с архитектором Татьяной Зенковой. Они успешно защитили эскиз-идею на Художественном совете. Затем — архитектурный замысел на Градостроительном. Из выступления Рублева я запомнил обрывок: “…Идее движения вперед подчинено и пространственное решение головы и пластическое решение картуша с его именем…”
В 1984 году памятный знак Смирнову был отлит из чугуна. И загрунтован под медь. Завершались работы по благоустройству и озеленению участка вокруг постамента. Все шло как по маслу. Но вдруг! Судьба словно ухмыльнулась. Проверяя человека на прочность. Или на слабость.
Вдруг божественное озарение коснулось чела кого-то из райкомовских ветеранов. За неделю до торжественного открытия памятника! В чьей-то голове созрела мысль улучшить готовое монументальное произведение! Возникло, так сказать, рационализаторское предложение. В лучших традициях соцсоревнования. Идея заключалась в устройстве так называемого “вечного огня”. Как в Москве! Словно под постаментом покоились раскрошенные пулями останки героя-земляка. Вопреки художественному замыслу. О здравом смысле молчу.
Великие были времена. И привычные были нравы. Равнодушное большинство подавляло совестливое меньшинство. Точнее, просвещенное. И в то же самое время мозгоблудство одного перевешивало коллективный разум. А мнение члена партии преподносилось как истина для беспартийного. А Рублев-то и был тем самым беспартийным!
Меня до сих пор поражает феномен всеобщего равнодушия к судьбе этого памятника. То ли это была запрограммированность на правоту начальства. То ли это была общая реакция на тотальную идеологизированность жизни по принципу: чем хуже, тем лучше… Скорее всего — коллективный паралич воли. И энтузиазма.
В общем, Рублев выглядел как Дон Кихот из Ламанчи. Он остался один между своим детищем и безликим монстром в форме партийной инициативы. Без соратников из Алтайского Союза художников. Без влиятельных мужей из Управления культуры. О худфондовской парторганизации и думать смешно.
Для неизбалованного заказами скульптора создание монумента было весьма отвественной задачей. Она могла оказаться первой и последней. В случае творческой неудачи. Было что терять. И Василий Федорович решился на крайнюю меру. Он пошел на прием к Первому секретарю горкома.
Пост этот занимал человек весьма решительный и своенравный. Хотя и неглупый. Всегда в окружении свиты. На всех смотрел с подозрением. Особенно на представителей местной интеллигенции. Видимо, было за что.
Здесь я сделаю маленькое отступление. В это время мне приходилось частенько сталкиваться с инициативами отдельных работников так называемого культурного фронта. Правда, инициативы те не были созидательны. Одна певичка, например, остановила строительство общественного туалета около драмтеатра. И до сих пор почитатели Мельпомены, стыдливо прячась, подмывают театральные углы. Другой грамотой предлагал запретить продажу пива. Видимо, с целью сохранения несущей способности стен драмтеатра. Третий культуртрегер, наоборот, всячески поддерживал идею рыбного окормления соотечественников. И кропал кляузы на собрата по творческому союзу.
Но я отвлекся.
Так вот Рублев направился к самому главному начальнику в городе. И пробыл там минут сорок. Непокорный художник сумел убедить Первого секретаря в абсурдности устройства “вечного огня” перед своим произведением. По тем временам это был героический поступок. Как бросок на амбразуру.
Я не понял, как это Рублеву удалось. Но я понял другое: бороться надо не с партийными монстрами, а со своим страхом. Потому, что начальство бренно, а искусство вечно. Как тот огонь.
Парковая скульптура или Дурной пример Гоголя
Меня всегда интересовала парковая скульптура. То ли своей таинственностью, то ли как альтернатива официальной помпезности. А может быть потому, что в Барнауле ее совсем не было. Не считая Девушек с веслами и Доярок с ведрами.
С этими идеями я пришел в мастерскую к молодому скульптору Мише Кульгачеву. Там же лежал Рублев, борясь с радикулитом или с хандрозом. Судя по тому, что Рублев леэал на лопатках, болезнь побеждала.
Речь пошла о декоративной скульптуре для бульвара по улице Молодежной. О замене примитивных гранитных глыб на художественно обработанные камни. Потом пошли смотреть этот бульвар. Помнится, Рублев сказал примерно следующее:
— Камень красив сам по себе… Его не надо насиловать…
Кульгачев возразил. Или поддержал. Я так и не понял. Он заявил:
— Камень можно тронуть резцом. Но чуть-чуть…
В общем, через год камни были заменены образцами садово-парковой скульптуры. В форме женских тел. Вызвав недовольство внештатных блюстителей нравственности.
Одно время Рублев сидел без работы. Оказался без заказов. Поэтому я придумал для него работу. И предложил разработать эскиз скульптуры для оформления площади у речного вокзала. Под условным названием “Встречающая”. Мыслилась эта вещь как нечто жизнеутверждающее. Перед речной гладью. На фоне неба. Я даже вписал этот объект в городской план художественного оформления.
Поколебавшись, Василий Федорович согласился. Через какое-то время мы любовались эскизом. Это была белая тонкая вертикаль скорбящей женщины. Вместо “Встречающей” Рублев сделал “Провожающую”. Слова были излишни. Он даже не стал бороться за свою пластическую идею. Видимо, понял, что разговор пойдет не о художественных проблемах, а о конъюнктуре. Он молча ушел в себя. То ли он находился в душевной депрессии, то ли вдохновился прибалтийской монументальной скульптурой. А может быть, столкнулись противоположные мироощущения. В общем, он совершенно остыл к этой идее. И больше мы с ним к ней не возвращались.
Мне хотелось, чтобы в городе стояли вещи, сделанные руками талантливого Рублева. Ведь бумага может сгореть. Металл же практически вечен. О камне я и не говорю.
Однажды я предложил ему придумать декоративную композицию у входа в книжный магазин, что на улице Георгиева. Использую фольклорную основу. Рублев разработал эскиз с названием “Птица Сирин”. Вчерне я договорился с председателем райисполкома об оплате.
Рублев сделал модель из глины. В натуральную величину. Надо было показать ее заказчику. Подписать договора. Заказчик обещал и не появлялся. Я договаривался вновь. Он вновь ускользал. Наконец, я договорился свести обоих в моем присутствии. И приехал к нему в мастерскую. И остолбенел: “Птицы Сирин” нигде не было. Сам Рублев ходил бледный и отрешенный. Он произнес:
— Я разобрал модель.
Я рухнул на табуретку. Со слов Рублева я понял, что у него состоялся телефонный разговор с председателем райисполкома. И на повышенных тонах. Что обыденно для руководителя такого ранга. И кощунственно для художника такого масштаба. Реакция, как говорится, не заставила себя ждать. Рублев повторил безумство Гоголя, истребившего собственную рукопись.
Неочевидные истины или Почему доброжелатели правы
В середине 80-х годов я участвовал в художественных выставках. И как график, и как живописец. Правда, как молодой, хотя работал в Архитектурно-планировочном управлении Барнаульского горисполкома. В должности Главного художника города. И дружил с Рублевым.
Доброжелатели предупреждали:
— Не дружи с Рублевым.
Я был наивен, поэтому спрашивал:
— Почему же?
Мне шепотом докладывали:
— Все, кто с ним связывается, перестают участвовать в выставках. Дальше, сам понимаешь…
Я думал, дудки, меня с художнического пути не сбить. И продолжал делать жанровые картины. На производственные темы. Имитируя замечательного художника Омбыша-Кузнецова.
На очередном выставкоме я показал большое полотно. На нем группа строителей и технократов непринужденно попирала ногами ионическую капитель — символ классической архитектуры. Жанровая композиция назойливо перерастала в социально-обличительный плакат. Члены выставкома пригнули головы. Представитель управления культуры скривил губы. Председатель выставкома судорожно искал аргументы для отказа. Наконец, нашел:
— А почему лицо у среднего монтажника такое красное?
Стоявший в стороне Рублев тихо сказал:
— От стыда…
Это была катастрофа. Я вдруг увидел ситуацию глазами Рублева: Богатство рамы, бедность колорита, назидательность сюжета, аморфность фигур, продажность выставкома, провинциальность мизансцены. Я как бы прозрел. Получалось, что я собственной серостью умножал всеобщее несовершенство. А должен был бы исправлять или искоренять, хотя бы в силу должностных обязанностей.
Чуть позже Рублев спросил меня:
— Ну и как тебе этот спектакль? — И, не дожидаясь ответа, заключил: — Тебе надо посмотреть рисунки Квасова.
Квасовские бумаги хранились в Рублевской мастерской. Как это часто случается с бездомными художниками. К слову сказать, с Владимиром Квасовым яч был уже знаком. По совместной работе над серией декоративно-игровой скульптуры для городских скверов, но его рисунки смотрел впервые.
Рублев разложил пыльные папки прямо на полу. На свет появились карандашные наброски. С грязных клочков бумаги на меня смотрели люди-глыбы, люди-деревья. В каждом портрете я видел скалу. В каждой фигуре я видел гору. Но это были живые люди. Более того, это были знакомые мне люди. Но это было незнакомое мне рисование. Это не был иной метод. Это было иное чувствование предмета.
— Я у него учусь смотреть, — просто сказал Рублев.
Вдруг я материально ощутил какая дистанция отделяет меня от Рублева, как рисовальщика. А Рублева от Квасова. И я захотел преодолеть эту дистанцию. Или хотя бы сократить.
И я перестал участвовать в выставках.
Я понял, доброжелатель был прав.
Свобода духа или Что делать с женщиной
Рублев был жизнелюб. Все, что его окружало, приводило Рублева в восторг. Люди, произведения искусства, случайные вещи. Он мог поднять с земли камушек и восторгаться его текстурой. Или остывший ручеек стали и любоваться его формой.
Как-то слонялись мы по выставочному залу. Он подошел к откровенно плохой работе. Отгородил руками фрагмент грязно-жухлого горно-алтайского пейзажа и сказал:
— Смотри- космос!
И действительно, меж его ладоней светилась космическая бездна.
Здесь я должен отвлечься. Рублев любил оптические игры. У него была огромная линза. Видимо, от школьного телескопа. Через нее он любовался иллюстрациями шедевров живописи. Точнее, цветовыми пространствами внутри этих картин. И приучал остальных.
Делалось это так. Рублев подсовывал альбом Рембрандта, затем подсовывал увеличительное стекло. Мне оставалось лишь навести линзу на грязные пятки блудного сына. А дальше происходили замечательные превращения. Цветовое пятно под линзой вдруг обретало глубину. Взгляд проваливался в красное клубящееся облако совершенно иного мира. Глаз невольно отыскивал чудесные образы в том новом мире, но этот мир открывался не сразу, а после некоторых усилий на пути к понимаю природы глубины цвета. И линза помогала преодолеть этот путь.
Вот зачем я вынужден был отвлечься.
Как-то раз брели мы втроем по улице. Рублев, Кульгачев и я. Впереди, раскачиваясь, дефилировала босоногая цыганка, совсем юная, носочками наружу.
Рублев озарился:
— Боженька мой! Как свободно она идет!
Он стремительно приблизился к ней. Заговорил. Юное чудо обернулось к Рублеву. В ее глазах уже сияла любовь. У нас с Мишей отвалились челюсти.
Я иногда задумываюсь, почему все женщины любили его? Или почти все. То ли за внимание, которым он одарял самую недоласканную, то ли за свободу, которой он награждал самую недоступную. А может быть, женщины чувствовали в нем божественное начало. Как это бывает с гениями. Хотя, я далек от мысли идеализировать Рублева, чей облик мало-помалу начинает бронзоветь, особенно в глазах посторонних. В этом смысле весьма интересно его позитивистское отношение к проблеме полов, ведь он не единожды повторял:
— Если любишь женщину, обязательно переспи с нею.
И тут же заявлял совершенно противоположное:
— Нет лучшего способа обладать женщиной, как рисовать ее.
Было в тех словах нечто иезуитское, что неизбежно для начитанного жизнелюба.
К чему я все это вспоминаю? Ах да, к вопросу о жизнелюбии. Поэтому расскажу вот что. В свое время в Барнауле был построен многоэтажный корпус больницы Моторного завода, что на улице Малахова. Торец этого корпуса был виден издалека. Поэтому на торце было решено разместить декоративное панно с условным названием “Здравоохранение”. Для усиления архитектурной выразительности застройки, как говорилось в задании. Это была нелегкая задача.
Рублев взялся за ее решение. И сделал эскиз скульптурной композиции. И не дин. Сначала в гипсе, потом в глине. В полторы натуры. Которую назвал “Чистое небо”. Вызывая восхищение у друзей и зависть у коллег.
Парная композиция венчалась парящим младенцем над руками матери и отца. Парящее дитя ассоциировалось с ангелом, струящиеся одеяния родителей — с облаками. Внутренние ритмы одежд создавали эффект шевеления тел, кисти рук тянулись к библейски традиционному младенцу, как к парящему в свободе духу, перешагивая рамки христианской религии.
Когда я первый раз увидел ЭТО я вздрогнул. Мне показалось, что я путешествую во времени. И переместился в эпоху Ренессанса. В мастерскую Микельанджело. Мне показалось, я увидел Сотворение Мира.
Все это я и вывалил Рублеву прямо в глаза.
Он слушал меня. Ходил перед моделью, мял в пальцах глину. Изредка прижимал кусочки к целому. В самых неожиданных местах. И говорил:
— Нужно копировать мастеров… Трудно надеяться, что можно изобразить то, чего не видел Микельанджело или Рафаэль… Можно копировать, опираясь на невысказанное ими… Новое растет из старого. Любые притязания — ложь…
И еще что-то про ускользающую правду.
На его всклокоченной шевелюре вспыхивали солнечные лучики, высветляя высокий лоб.
И еще он сказал:
— Жизнью движет любов…
Он так и произнес “любов”, с твердым “в” в конце слова. Наверное, эти слова иллюстрировали его жизненную сущность или философскую концепцию, что, в принципе, одно и то же.
Я слушал Рублева. И начинал догадываться, почему его любят женщины.
Голова вождя или Ликбез для идеологов
Распределение скульптурных заказов в Алтайском худфонде было традиционным. Сложные — для талантливых, денежные — для партийных. Иногда наоборот. Престижные для вторых, второсортные для первых. Что не мешало членам партии ковать “кочаны” для города, а талантливым ваять шедевры для отдаленных райцентров.
Но предисловие затянулось
Однажды бдительный горожанин позвонил в горком партии и доверительно сообщил:
— У Ленина голова не в порядке.
— А у вас? — спросили из высокого кабинета.
В результате выяснилось, что голова памятника Ленину на площади Октября лопнула. Причем, в нескольких местах. То ли от капиллярной влаги, то ли от старости. В конце концов решили — от нервного перенапряжения. Ведь на дворе разгоралась перестроечная истерия. Должностные лица позволяли себе ослаблять галстуки. Некоторые — даже шнурки. Я тоже раскрепостился. Поэтому предложил снять голову и отр5монтировать ее. И получил категорический отказ:
— Накануне ноябрьской демонстрации?! Вождь без головы?! Это же провокация! И народ поймет неправильно!
Я спросил у Третьего секретаря:
— А если голова рассыплется во время демонстрации? От дружной поступи трудящихся. Кто будет виноват?
Это решило исход дела.
Задание на восстановление головы вождя было направлено в худфонд. Художники члены партии бросились врассыпную. Такое ответственное задание! Да в такие сжатые сроки! Можно лишиться партбилета!
И работу поручили беспартийному Рублевую И безотказному. А чтобы народ не видел, что кто-то копошится в мозгах вождя, памятник обнесли стенами на всю его высоту. И крышу соорудили.
Рублев оказался человеком без предрассудков. Как хирург. И снял вождю голову с плеч с помощью пролетариата и перевез в мастерскую, чтоб работать в теплею Назло радикулиту, хандрозу и отделу пропаганды. В общем, с заданием партии Рублев справился. И сделал все как надо.
А я повез секретаря по идеологии в мастерскую к Рублеву, показать результат. Секретарь опешила. А это была женщина. Она задала два вопроса. Первый в мастерской:
— Почему голова Ленина черная?
Я чуть не ляпнул, мол, с горя. Но Рублев опередил меня, мол, не может же голова быть белой, если фигура вождя всегда была черной.
Подтекста она не заметила. А может, не подала виду. Второй вопрос идеологиня задала уже в машине:
— Почему ТАКУЮ работу доверили человеку, который рисует голых женщин?
Видимо, Рублевские наброски не укрылись от ее бдительного ока. Пришлось мне лихорадочно искать аргументы в пользу бедного Рублева. И в свою тоже. Импровизируя лекцию о пользе анатомического рисунка и обещая показать специальные учебники.
На следующий день я заскочил к товарищу по несчастью. Поделился горем. Рублев согласился, что партийных функционеров надо просвещать. И вывалил на кровать груду альбомов по искусству. Половину я забрал с собою и направился в горком.
Меня ждали. Я принялся за просвещение. Мешали телефоны, мешали починенные. К тому же главная идеологиня краснела. Когда я показывал Венеру Милосскую. А на Аполлона Бельведерского вообще не смотрела. Ликбеза не получалось. Я посмотрел на часы. За окном стемнело. Она радостно со мной попрощалась, не проявляя интереса к художественным альбомам.
Альбомы я вернул. Рублев даже не стал расспрашивать. Было ясно: престижных заказов ему не видать, как своих ушей.
Памятник Шукшину или Победителей не судят
Талантливые люди притягиваются друг к другу. Траектории их судеб пересекаются. Волею случая, в каком-то месте и в какое-то время. Так пересеклись судьбы Василия Рублева и Василия Шукшина.
А дело было так.
Идея увековечения памяти известного писателя, кинорежиссера и киноактера зрела давно. Особенно в умах Барнаульских художников. Более того, барнаульцы обращались в правительственную комиссию за разрешением на установку памятника. Но безрезультатно!
Барнаульский скульптор-самоучка Николай Звонков тоже хотел сделать памятник Василию Макаровичу. Многолетние его потуги не давали результата. Члены выставкомов отвергали один эскиз за другим. И правильно делали. Хотя Звонков был энергичен, а за его спиной стояла производственная база огромного шинного завода.
Приближалось 60-летие Шукшина. А памятника знаменитому земляку в Барнауле не было. И не предвиделось.
К тому времени я уже несколько лет работал Главным художником города. У меня накопился кое-какой созидательный опыт. И я решил соединить производственную базу самоучки с талантом профессионала. Я выбрал самого талантливого — Рублева. И предложил ему изваять памятник. Совместно со Звонковым. Задаром. И без правительственного разрешения. Я давно знал: победителей не судят.
Василий Федорович согласился без колебаний. Мне показалось, даже с удовольствием. Кажется, я уже рассказывал о его восторженном отношении к жизни. Точнее, к ее течению. К любым ее проявлениям. Даже самым незначительным. Таким, например, как цвет женских волос. Особенно на закате. Как узор на коре дерева в свете дня. Как запах цветущей вишни утром или тепло камня в сумраке ночи. Более того, Рублев постоянно искал подобные проявления жизни. И находил их повсеместно. Открывая им навстречу свое сердце. И приучал других. Иногда он с сожалением говорил:
— Человек не знает, что надо учиться радоваться…
В общем, Рублев взялся помочь Звонкову. Я их свел. И Рублев несколько раз побывал в мастерской у самодеятельного скульптора. О чем они беседовали наедине история умалчивает. Но спустя неделю заводской художник пришел ко мне и взмолился:
— Не могу с Рублевым работать! Вместо того, чтобы портрет Шукшина лепить, он щепочку с пола поднимет и полдня восхищается ее красотой! Не могу работать с ним… Пришлось мне обращаться за помощью к ближайшему другу Рублева к скульптору Кульгачеву. Михаил оказался более решительным. Он убедил самоучку “раздеть” глиняную модель памятника до каркаса. Переделал позу и фигуру. Потом сообща “одели” каркас плотью. В конце концов памятник В.М. Шукшину был вылеплен, отлит и воздвигнут. Вопреки проискам недоброжелателей из числа штатных худфондовский ваятелей. Вопреки неверующим из числа властьпридержащих. Вопреки отсутствию средств. И вопреки классической технологии цветного литья. Но это тема отдельного повествования.
На открытие памятника прибыла Наталья Макаровна Зиновьева. Сестра Василия Макаровича. Та сама “Таля”. Она видела все существовавшие на 1989 год скульптурные изображения Шукшиа. И отдала предпочтение барнаульскому. Она, конечно, не профессионал. Но она — очевидец. И родная кровь. А это главное.
А голову скульптуры в конце-концов сделал Василий Федорович Рублев. Эту голову в оригинале видели немногие. Но видевшие оригинал в глине, соглашались, что талант мастера вдохнул жизнь в портрет своего тезки. Фотография этой работы помещена в 36-м номере газеты “Литературная Россия” от 9 сентября 1988 года. В статье “Шукшинские меридианы” с ошибочным указанием авторства, что весьма показательно для российской прессы. Учитывая цель этой публикации, Рублевский этот портрет впоследствии был “зализан” руками официального автора-самоучки, который так и не разглядел красоты в валявшейся под ногами щепочке.
А Рублев все время оставался в тени, потому, что слишком велико было “давление” со стороны увешанных регалиями заслуженных представителей Алтайского худфонда, желавших стать авторами памятника Шукшину, но не умевших работать бескорыстно. Интриги Мадридского двора Рублеву были чужды.
Он уже знал цену жизни, и ее смысл.
Дом архитектора или Кое-что о единомышленниках
В Алтайском худфонде Василия Рублева считали чудиком. Прагматики из худсовета от его слов отмахивались.
Талантливая художница Ковешникова к Рублеву относилась по матерински. Но с сожалением. Она так и заявляла:
— Опять Вася чушь несет.
Не менее талантливый, но спивающийся график Вагин возмущался:
— Нашли кого слушать! Ваську!
Живописец Торхов постоянно путал худсовет с партсобранием:
— Ты, Рублев не мешай. Какие будут предложения? Будем подводить черту…
В общем, Рублев натыкался на некий барьер. Особенно в собственной профессиональной среде. Умники же мешают. Волей-неволей он вынужден был создавать свой маленький мир. Или выращивать свое дерево. Как он говорил. Из числа близких друзей. И дерево принесло плоды. Видимо, сказалось педагогическое образование.
Позже он рассказывал:
— У меня не было единомышленников. Но я создал свою среду. И окружил себя учениками… Теперь есть люди, которые меня понимают…
Или что-то в этом роде.
Однажды Рублев осознал, что стены его мастерской ему тесны. Его студии была нужна свежая кровь. И он переместился в заднюю комнату выставочного зала Алтайского союза художников. Среди рисующих оказалось несколько архитекторов. И родилась идея переместиться в Дом Архитектора. Что недавно открылся на улице Анатолия. Тем более, что в то время Дом Архитектора был центром неформального общения интеллигенции. К слову сказать, выпавшим из-под бдительного ока партконтроля. А накатившаяся волна политического обновления рождала восхитительные надежды.
Рисовали много. Каждый делал до десятка набросков за занятие. Под занавес раскладывали листы на полу. Сокрушаясь и радуясь. Паркет делался черным от угля и соуса. В камине горели неудавшиеся опусы. В атмосфере витал дух товарищества. Счастье творческого соперничества. И пепел.
Рублев говорил. Говорил много. Объяснял, что для рисования надо разбудить в себе способность видеть прекрасное в натуре. Что надо увидеть великое в малом. Что надо любоваться формой. Мысленно взвешивать ее. Сопоставлять массы всех частей, соотносить между собой. Что надо увидеть, как велик таз. Как мала голова. Как огромен купол юбки. Как длинна шея…
Иногда он приводил натурщиц. И стены Дома Архитектора розовели от обнаженного женского тела.
Рублев подходил ко мне. Пальцами размазывал все, что я успел нарисовать. И терпеливо призывал:
— Надо увидеть БОЛЬШУЮ форму… Надо увидеть БОЛЬШУЮ линию… А все эти сисечки и писечки — потом…
Он стоял рядом. И вколачивал свои мысли в мое сознание. Одну за другой. Как гвозди.
— …Художник чаще всего рисует свое тело… Даже когда рисует чужое… И только большой художник способен проникнуться чужим телом…
Я продолжал усложнять композицию на листе.
Рублев продолжал вколачивать гвозди:
— …Чем совершеннее рисунок, тем он проще.. Чем ближе нам кажется цель, тем дальше от нас она отстоит…
После чего он делал далеко идущие выводы. В прямом смысле этих слов:
— … Кратчайший путь через бесконечность!
Рядом рисовала экспрессивная Люда Кульгачева. Она стонала, скрипела крошащимся соусом, рвала бумагу. Тянула страшные черные линии. Куда-то за край листа. На бумаге ей явно не хватало места. Рублев радовался. Он приговаривал:
— Тяни! Тяни линию! Почувствуй ее энергию!
Тут же по хозяйски рассаживался Коля Гудович — разработчик модной одежды. С внешностью интеллигентного гангстера. Возмущался водкой и Советской властью. Восхищался Бодлером и французскими духами. Доводил бумагу до черноты.
Рублев ему говорил:
— Вот белый лист. Он чист, но не пуст. В листе ты должен почувствовать пространство… Ты провел линию — ты организовал пространство листа…
Заглядывала на студию художница Лариса Пастушкова. Озаряя улыбкой и без того розовые стены Дома Архитектора. И восхищенно затихала. Греясь в лучах славы своего соседа по мастерской. И в своих собственных.
Покой нарушал Костя Красников — холерик и забияка. В Испании он бы мог стать тореадором. В Италии — сниматься у Федерико Феллини. В Барнауле он оформлял “красные уголки”. Костя был фанатично предан Рублеву. Однажды он чуть в драку не ввязался с одним журналистом, усомнившимся, что Рублев — гений. Журналист оказался приятелем Василия Федоровича. Собственно это и спасло журналиста. А может быть, и Костю.
Отовсюду приходили люди. Те кто мог понять Рублева оставались. Кто не мог — уходили. Скандально защищая свое право на фотографически правильное рисование.
Рублев никого не гнал. И никого не держал. И никого не осуждал. Правда, не уставал ссылаться на авторитеты:
— Матисс дал формулу: “Точность — не есть правда”…
И продолжал рисовать. А под его пальцами возникала художественная правда. Правда образа. Подкрадываясь к Истине.
Дом Архитектора или Что делать цветам
В Доме Архитектора росла пальма. В большой кадке. Или фикус. Это не имеет значения. Главное, что всяк входящий неизменно сталкивался с этим зеленым чудом. И удивлялся ему. Особенно зимой.
Однажды это растение зацвело. Цветок благоухал. На фоне рисующих студийцев. Вопреки здравому смыслу. И рассудочному прагматизму живых свидетелей.
Вытаскивая из памяти события времен цветущего фикуса (или кактуса) я невольно вижу одухотворенный лик Василия Рублева. А рядом с ним смуглую Люду Кульгачеву. Именно ее.
Эта энергичная брюнетка на студии не просто рисовала. Она сражалась на листе. Сражалась с невидимым врагом. Врагом, похоже, было ее собственное духовное несовершенство. О котором знала лишь она сама. И по-детски жаловалась Рублеву на него.
Меня всегда удивляли ее перепады настроения. О, эти перепады настроения! От экспансивности к меланхолии. От пугающей сосредоточенности фанатика к дамской капризности. И обратно. С торжествующей поступью пантеры. И душевной открытостью.
На студии всегда были новые люди.
Приходил на занятия Володя Золотов. Расцветающий представитель Свердловской архитектурной школы. Являя признаки таланта рисовальщика. Но предпочитая оставаться архитектором. И самим собою.
Появлялись два приятеля: Саша Камозин и Вова Лапин. Выпускники Новоалтайского художественного училища. Первый работал художником в Ленинском райисполкоме. Второй — в Индустриальном райсиполкоме. Вова про Сашу говорил:
— Русский. В душе еврей. Хочет быть немцем.
Саша Вову тоже не жаловал:
— Кулачина. В душе еврей. Не хочет быть немцем.
В общем, они дружили. Несмотря на противоположные националистические ориентации. И замечательно рисовали.
Рядом учился рисовать генпланист Петя Анисифоров. Пряча лицо под пышной шевелюрой и такими же усами.
Оля Бобылева украшала компанию. Своей крепкой фигуркой. И пунцовыми щечками. Особенно с мороза. Частенько рисовали именно ее.
Рублев заявлял, что рисование натуры в одеждах не менее сложное занятие, нежели изображение обнаженной модели. А может быть и более. И доказывал это на деле. Он рисовал складки одежд. Превращая их в нагромождение архитектурных форм. Чем подкупал сердца зодчих. Процесс рисования Рублев переводил в процесс размышления. Он излагал:
— … Натура диктует мысли совсем не о человеке. Вспомните Чюрлениса… Красота — во всем… Она есть… Ее надо увидеть… — Потом Рублев усложнял задачу. — …То, что может быть достигнуто, должно быть достигнуто сегодня, сейчас… Если цель не достигается мгновенно, значит мы думаем не о том…
Продолжала шуршать бумага. Трещал прессованный уголь. За 22 копейки коробка.
Я думал о том, что невозможно объективно судить о художнике. Судить можно лишь субъективно. Подпадая под обаяние его личности. И труды его могут казаться нелепыми. Если ты лишен знания концепции его творчества. И всякая всячина лезла в голову. Точнее, из головы.
Кажется, я уже говорил, что Рублев поощрял всякого, кто брал в руки карандаш. Он говорил: “карандашик”. Поэтому не могу не вспомнить о Вере Старовой. Скромной девушке из некоего Сельхозпроекта. Она исправно посещала нашу студию. Стоя в сторонке. И внимая учителю. Напоминая сиротливый полевой цветочек. Рублев пытался вытащить ее из состояния глубочайшей стеснительности. Даже хвалил ее рисунки. Не говоря уж о прочих комплиментах. Похоже, она начинала ему верить. Но Рублеву-то хотелось, чтобы она поверила в себя!
Однако, пора заканчивать главу.
Если бы меня спросили, как определить суть учительства Рублева, то я привел бы одну его фразу. Фраза не его, но он любил повторять эту восточную мудрость: “Пусть все цветы расцветают”.
Идеи подсознания или Зачем нырять в бездну
Как-то Рублев показывал мне свои рисунки.
Среди бумаг обнаружилась папка с автопортретами. Он стал раскладывать крохотные рисуночки. Немного стесняясь. И гордясь одновременно. Это были наброски на тетрадных листах, на кусках обоев, на промасленных обертках, на этикетках и вообще на чем попало. Как и водится у порядочного рисовальщика.
Я смотрел. Автопортрет с бородой. Автопортрет без. Автопортрет с явной небритостью… В своем стиле. При этом Рублев говорил:
— …Глаз художника берет то, что есть в жизни… Он исследует жизнь как она есть… Правда жизни ускользает. Неправда лезет в руки…
Перед нашими глазами дратые чернильные линии по мягкому картону. Никаких мелочей. Только свет и тень. Трагический образ.
Рублев перекладывал рисунки и продолжал:
— …Иногда бывает плохо, и кажется, что душа умерла. Тогда подхожу к зеркалу и рисую себя. Автопортрет показывает вижу я или не вижу…
На листе жирные линии черного соуса. Чуть тронутые растушевкой. Точнее, пальцем. Живая неровная линия лепит мощный череп. Максимальное упрощение. Моя любимая техника.
Рублев поясняет:
— …Крайнее обобщение должно приводить к индивидуальному. К портрету…
Еще один автопортрет. Экспрессия черного и белого. Взмах крыла перед лицом. Движение воздуха вокруг головы. Скользнувший по форме свет. Сияющий вокруг нее.
И еще портрет. Из воздуха соткалось лицо. И выдвинулось из стены тумана. Так мощно и рельефно! Я охнул. Рублев создавал не форму! А свет вокруг нее! Я попробовал словесно сформулировать эту идею. Рублев согласился. Более того, развил эту мысль. Он сказал нараспев:
— Художнику удается идти вперед, только следуя идеям, выплывающим из посознания…
Я слушал и думал: “Из подсознания или из-под сознания?” Хотя, мне нравились оба варианта.
Второй раз к теме подсознательного творчества Рублев вернулся на студии в Доме Архитектора. Он принес на занятие несколько автопортретов. Бережно разложил на подиумах.
Вот сепия. Сознательно акцентированная ассиметрия лица. Хотя сделан фас. Снова скольжение света. По буквально “распаханному” лбу. Хотелось сказать “челу”…
Вот снова черный соус. Экспрессивные штрихи. Или даже нервные. Таким себя можно увидеть в зеркале только больным. Страшным, истерзанным и растерянным. Такие лица я видел в кинохронике. После Цусимы…
Вот цветной мел с углем. Голубые пятна щек. Из недр листа проявляется призрачный лик. Страшный и неотвратимый. Как железнодорожная платформа на перегоне…
Следом потянулись забытые разговоры. О творческом методе. И смутные догадки. О разрушительной работе подсознания. Из той сумятицы я вспоминаю лишь пару фраз. Рублев сказал так:
— …Мысль придет потом. Сначала надо нырнуть в бездну…
Я заметил, чем ярче слово, тем глубже мысль. Которая пробивается в тайне миропонимания. Через неведение сущности. К безмолвию мудрости. В общем, за яркость. Его слов таилась сокровенная цельность его души. Или Духа.
Рублев был понятен. И одновременно непостижим.
Дом Архитектора или Рядом с маэстро
Когда я прихожу в Дом Архитектора, я вспоминаю Василия Рублева. Я вижу светлое лицо. Смеющиеся глаза. Или внимательно смотрящие. Вижу вечно всклокоченную редеющую шевелюру. И аккуратно подстриженную бородку. Под юношески свежими губами. Тонкий нос с легкой горбинкой. И следом от очков. И веера мелких морщин вокруг глаз. Но стоп! Ведь это детали. А Рублев учил видеть ЦЕЛОЕ. И рисовать ЦЕЛОЕ. Он так и твердил:
— Забота о целом… Помните — забота о целом…
И замирал в позе дирижера. В начале увертюры.
Для натурщиц готовили подиум. Из подставок для архитектурных макетов. Включали электрообогреватели. В зал входила босая девушка. Трещала бумага. Сыпался уголь и сангина из-под рук рисовальщиков.
Рублев говорил о проблеме изображения обнаженной натуры. О том, что рисование женского тела совершенно точно выдает отношение человека к женщине.
Я всматривался в свои наброски. Мнилось мне в них нечто болезненно-натуралистическое. Или даже бесстыже-театральное.
Рублев тихо спрашивал:
— Чувствуешь?
Я сокрушенно кивал головой.
Частенько речь заходила о композиционной выразительности рисунка. Рублев вновь приводил слова Матисса:
— “Художник должен строить свое произведение прочно”.
Это был несокрушимый аргумент. Особенно для архитекторов.
Иногда натурщицы не было. Тогда рисовали друг друга. Особенной статью выделялся архитектор Юра Букса — преподаватель из Политехнического института. Рыжая борода его усугубляла экзотику форм. И богатство колорита. Его портретами были заполнены папки всех студийцев.
Бывала на наших занятиях Ася Гольман. Художница из Алтайского Дома моделей. Прятала глаза. Стесняясь полноты. А я вдруг увидел роскошь ее тела. И рисовал ее. Восторгаясь наполненностью форм. Как учил Рублев.
Изредка заходила Таня Ашкинази. После личной трагедии. И в состоянии депрессии. Рисовать отказывалась. Тихо позировала. Завернувшись в шаль и обняв сынишку.
Рублев делился собственными наблюдениями:
— Легче всего изобразить мужское тело… Чтобы рисовать женщину надо подняться в своем умении еще на ступень… Труднее всего уловить движение ребенка. До этого уровня дотягиваются единицы…
Потом подсовывал малышу бумагу и грифелек. С улыбкой обольстителя. Или доброго гения. Дите возило ручонками по листу. Выяснялось, оно рисовало маму. Рублев восхищался:
— Ты ж моя умничка!
(Точно так же он обращался к своей дочери. К Надежде.)
Занимался на студии и Вова Максименко — книжный график. Раскладывал баночки и коробочки для рисования. Восхищая юношеской непосредственностью. Вел длинные разговоры о психологии детского восприятия мира. Рублеву эта тема была интересна. Видимо, обогащала его арсенал. Кое-что он даже просил повторять. Потом говорил сам:
— Все дети талантливы от рождения. Они творят свободно… Для ребенка естественен перенос внешнего мира на бумагу… Ребенок теряет способность творить, когда научается себя оценивать…
Он так и говорил: “научается”. В его устах это звучало естественно. Как журчание ручья.
Однажды Рублев рассказал притчу об учителе. Который собрал учеников для проповеди. Но в это время за окном запела птица. Учитель молчал, пока она не улетела. Потом сказал: “Проповедь окончена”…
Мне кажется, Рублев хотел быть тем учителем. А все остальные — слушателями пения птицы.
Один мудрец сказал, что самая большая роскошь — роскошь человеческого общения. Казалось, этому счастью не будет конца…
Живая натура или Зачем форсировать чувственность
Однажды Рублев привел на занятие студии свою подружку. Московскую. Эта столичная штучка сочетала в себе романтичность Ассоли и отрешенность Христовой невесты. Монументальный профиль латиноамериканки контрастировал с гладко ниспадающими русыми волосами. Или мягко дополнял. Усиливая экзотическую красоту чужой женщины. Казалось, она сошла с картины Модильяни. К нашему учителю. Насовсем.
Сам Рублев вскользь обмолвился:
— Вот чего мне недоставало…
Я стоял и гадал. Что он имел ввиду? То ли свою “латиноамериканку”. То ли пластику Модильяни. А может в тот момент у него бумага кончилась?
Кажется, именно тогда я понял, что такое большая форма в рисунке. И что такое движение формы.
В этой связи я вспоминаю другую женщину. Я вспоминаю Людмилу Дорофееву. Ставшую натурой для множества графических, живописных и скульптурных работ. Вышедших из-под рук Василия Рублева. Самым крупным творением стала скульптура задумчиво сидящей девушки. Гипсовую модель которой Рублев показывал на выставках. Эта вещь магнитила взгляды своим размером. Сложностью ракурса. И внутренним напряжением. В смысле, энергией движения сильного женского тела. Совершенно неприемлемого для пуританской столицы хлеборобного края.
Хорошая натурщица — редкость. Умением позировать — талант. И труд. У серьезного художника с талантливой натурщицей всегда складываются очень целомудренные отношения. И очень продуктивные. Как у моих героев.
По поводу целесообразности работы с натурой Рублев занимал конкретную позицию. Я бы даже сказал спортивную. Он говорил:
— …Натура — трамплин… Толчок в стихию создания образа…
Видимо, он был прав. Если считать целью художественного творчества создание образа. Я верил Рублеву. Я тоже смотрел на обнаженную натуру, как на тезисы к докладу. Хотя оторваться от “правильного” рисования почти не мог. Невзирая на готовую теорию. И живую “латиноамериканку”.
В те времена мне казалось, что могу изобразить любой объект. И в любом ракурсе. Как конструктивно мыслящий архитектор. Или аналитически мыслящий конструктор.
Рублев мягко возражал:
— Некоторые люди с подвижным темпераментом и с какой-то особой выразительностью вообще не поддаются изображению…
Более того, он утверждал, что не всякий ракурс годится для рисования. Точнее, он убедил меня в этом. Непосредственной работой с натуры. Подведя к чувственному рисованию. Однажды он произнес замечательную формулу.
— Колдовство искусства — это искусство передачи чувств.
И я сделал открытия. Для себя.
Первое: колдовство — это передача информации.
Второе: искусство колдовства — это форсирование чувственности.
Третье: вот чего мне недоставало.
На этом месте можно заканчивать главу. По правилам игры. И я не стану их нарушать.
Тракторный завод или Чем велик человек
Весной 1986 года группа барнаульских художников поехала в Рубцовск. На Алтайский тракторный завод. В творческую командировку. Группа состояла из четырех человек — Василия Рублева, Михаила Кульгачева, Льва Шмидта и автора этих строк. Все готовились к осеннему вернисажу.
Шмидт хотел нарисовать промпейзажи. Кульгачев собирал материал для скульптурной композиции “Сталевары”. Рублев намеревался сделать серию портретов. Я не желал отставать от остальных.
Самое время рассказать о Рублеве с Кульгачевым. Они дружили. Что их могло объединять? Внешне ничего общего не было. Рублев был худощав, порывист и голубоглаз. Кульгачев — плотен, нетороплив и кареглаз. Один тараторил скороговоркой. Другой взвешивал слова. И клал их старательно, как кирпичи. В общем, они были противоположностями. Во всяком случае, внешне. Что сводит людей невольно. Видимо, начало дружбе положила профессия. А цементировало их отношения нечто большее. То ли это было общее понимание роли искусства. То ли это было общее неприятие провинциальных эстетических стандартов. А может быть — индивидуальное стремление к красоте. Которую художник одушевляет. И в которой несет самого себя.
Поселились мы в заводской гостинице. По вечерам показывали друг другу дневной “улов”.
Рублев рисовал рабочих. С листов смотрели усталые живые люди.
Я тоже делал портреты сталеваров. Получались изможденные герои. Этот героический налет портил всю серию.
Миша Кульгачев делал то же самое. Но для будущих скульптур. Злоупотребляя гармошечными складками брезентовых роб.
Шмидт создавал заводские пейзажи с красными флагами. Без флагов выставком работы не принимал. Лева знал это определенно. Он материл выставком, флаги и советскую власть. Но продолжал рисовать звездочки на пейзажах. Ему хотелось вступить в Союз Художников. Ему было почти сорок лет.
Однажды случилась творческая дискуссия. Начала этой дискуссии я не застал. Но причины лежали на поверхности. Вместе с краснозвездными промпейзажами Левы Шмидта. Похоже разговор шел о соответствии формы и содержания. Или даже о роли художника в обществе. Причем, на высоком теоретическом уровне. Ибо Лева заявлял:
— … В гробу я видел ваш модернизм! И соцреализм тоже! Я хочу быть свободным художником!
Идею свободы выбора Рублев всячески поддерживал. Как человек прогрессивных устремлений. Поэтому ненавязчиво предлагал:
— Если хочешь быть свободным, будь им…
Здесь я вновь делаю отступление. С модернизмом для меня все было ясно. По поводу соцреализма возникали некоторые сомнения. Неясно, каким образом народность может сочетаться с партийностью. А партийность с правдивостью. Особенно в искусстве. Если партийность не может быть эстетическим принципом. А правдивость вообще из сферы этического.
Теперь можно вернуться к разговору в гостинице.
Надо сказать, Лева искал признания. На худой конец, денег. Или, хотя бы, справедливости. Поэтому наседал:
— Вася, ты сам-то свободен? Над тобой ведь все смеются! Ты сам-то веришь в то, чему других учишь? Я лично сомневаюсь!
Первый раз в жизни я увидел ожесточившегося Рублева. И в последний. Он раздельно произнес:
— Когда сомневаешься, надо говорить правду.
Оппонента понесло:
— Какую правду? Где эта правда! Кому она нужна!
Рублев взял себя в руки. И сладким голосом иезуита промелодекламировал:
— Искренность — источник всякой гениальности.
Шмидт сначала глубоко задумался. Потом глубоко оскорбился:
— Ты намекаешь, что я — бездарь?
Кульгачев поддержал своего друга. И догадку оппонента. Он спросил:
— А сам ты как думаешь?
Лева Шмидт в долгу не остался. Но ответил уклончиво. Зато по-русски:
— Да пошли вы все!
И хлопнул дверью. Через несколько месяцев он хлопнул дверью на таможне. Эмигрируя из СССР. Так и не получив членского билета Союза Художников.
На осенней выставке экспонировались несколько мужских портретов руки Василия Рублева. На посетителей смотрели сквозь стекло усталые живые люди. Смотрели глазами искреннего художника со знаменитой фамилией. Морщинились темнокожими складками иконных ликов.
В выставочном зале к Рублеву подошла восторженная женщина. Видимо, педагог. Она воскликнула:
— Ах, вы великий человек!
На что он сдержанно ответил:
— Человек велик не тем, что он сделал. А тем, что есть в его жизни несвершенного… И может быть, вовек несвершаемого…
А я стоял рядом. И сожалел, что нет в моем кармане диктофона.
Уроки рисования или Неумелое умение мудреца
Рублев продолжал вести занятия своей студии в Доме Архитектора. Иногда привычное рисование он превращал в игру. В коллективный аттракцион. С иллюзией свободы для каждого. В игру с названием:
“Я — гениальный рисовальщик”
Он распрямлялся. Поднимал всклокоченную бороду. И вдохновенно начинал:
— Так… Все, что отвлекает нас должно перестать существовать… Помыслы собраны воедино… Дух безмятежно спокоен… Рисуем…
Я замирал над листом. Раздваивая ум и тело. Пусть руки живут отдельно от головы. Пусть руки “думают” сами…
И вот мир двинулся. Нет, шевельнулось белое поле листа. Создалось красное пятно. Из крошева сангины. Затем потянулась линия. Долгая, долгая, мучительно долгая линия. Надо бы помедленнее. Как учит Рублев. Да куда уж там! Сознание не успевает за телом. Это ж наваждение! Поздно! Рисунок уехал за край листа. Все нормально. Важен процесс, а не результат. Растереть все. Смазать ладонью. Под руками возникает красное облако. Как пыльная буря. В руках уголь. Вживляю новую линию. Вторым слоем. Черным по горячему. Чуть проехать пальцем по жесткой линии. ЕСТЬ! Есть пространство! Возникло! Явилось!
Я упираюсь взглядом в нарисованное.
Зачем я это делаю? Зачем я здесь? Может быть, я хочу понять себя? Или хочу понять других? Или я хочу славы? Ведь я тщеславен. Как всякий художник. Нет, все проще. Мне радостно рисовать. Просто получать удовольствие. От чуда, возникающего из-под собственных рук. Уподобляясь Создателю. Сотворяющего мир…
Не скромно, правда, сказано. Зато и не слабо!
Рублев продолжал:
— …Не старайтесь рисовать для кого-то… Или для чего-то… Истинно большая форма откроется тому, кто рисует без цели…
Рисование обретало вдруг мистический характер. Студийная атмосфера наполняла мои действия смыслом. И не только мои. Я колдовал над бумагой. Происходила некая внутренняя борьба за жизнь изображения. Сопровождаемая стонами, вскриками и безмолвной артикуляцией. Это было уже не просто рисование. А нечто иное. За гранью сознания.
Я останавливал руку на излете движения. И слушал учителя.
Рублев говорил о том, о чем хотелось слышать. Он говорил, что рисунок может быть незаконченным. Что не нужно печалиться из-за незаконченного изображения. Скорее, нужно скорбеть из-за того, что оно оказалось законченным. Мол, если устремления художника уже можно понять, что для чего придавать рисунку законченность? Но если замысел художника понять нельзя, то работа останется навсегда незавершенной. А если так, то зачем начинать рисовать вообще! Или что-то в этом роде.
Он говорил. И одновременно сосредоточенно водил грифельком по бумажке. Было видно как мысли его спокойно вызревали. И так же спокойно облекались в слова. Свободные в своем естестве. И величии.
— …Настоящий художник всегда мудрец…Мудрость — это путь цельного существования… Это некое умение — совершенно неумелое — не нарушать великий покой бытия…
Он так и выражался. По книжному. И это не казалось напыщенным. Скорее, наоборот, подвигало к сосредоточенности.
Я думал, что объединяет людей? Совместные идеи? Общие цели? Обоюдная любовь? И находил ответ. Нас объединяет совместный опыт. Прочнее, если этот опыт духовный.
Этот опыт накапливал узкий круг рисующих единомышленников. И возникало внутреннее неизъяснимо-интимное понимание. Возникала некая духовная традиция. Точнее, создавалась. На обширном фоне бесчувственных к искусству людей. Чтобы существовать среди них. И независимо от них. И, может быть, даже от времени…
Рублевские полулекции-полуразмышления помогали осознать себя живым человеком. Более того, мыслящим. Способным помыслы свои собрать воедино. Когда дух безмятежно спокоен. И рисовать.
Чужая слава или Мальчишка среди стариков
Слава о рублевской студии в Доме Архитектора достигла официальных кругов. И портила настроение признанных лидеров Алтайского изоискусства. Еще бы! Чужая слава не радует. Когда своей нет. В недрах правления созревало решение. Пора. Пора организовать свою студию При Алтайском отделении Союза художников. Для утверждения реалистических принципов в искусстве. Словно, кто-то был против.
К этому времени студийцы начали ощущать, что стены Дома Архитектора им тесны. Так случается. Нужна была свежая кровь. В общем, все сошлось к тому, что создание студии при Алтайском Союзе художников многих вдохновляло. В том числе и самого Рублева. Видимо, ему давно хотелось поработать с широкой аудиторией. Пусть даже не на первых ролях. Я давно заметил, что скрытое лидерство его вполне устраивает.
Правление назначило руководителем студии Владимира Федоровича Добровольского. Хорошего рисовальщика и опытного педагога. Мольберты были привезены из Новоалтайского художественного училища. Вместе с натурщицей.
И настал долгожданный день.
Рублев замахнулся на большой формат. Как для эскиза монументальной росписи. Кроя черным соусом поверх сангины. Он даже помолодел. Особенно на фоне тучных мастеров местного изоискусства.
Самое забавное оказалось в том, что рисовать пришли одни ветераны. Видимо, хотели тряхнуть стариной. Или боевой молодостью. Молодых членов творческого союза не было видно. То ли они умели рисовать. То ли трясти нечем было.
Настроение у пришедших было приподнятое. В атмосфере витал дух барнаульской богемы пятидесятых годов. Звучали анекдоты времен освоения целины. График Вагин был настроен благожелательно. Поэтому говорил живописцу Жеребцову:
— Смотри, Васька опять чудит…
Живописец Панарин тоже был добр. Но ироничен. Он спрашивал:
— Вась, ты че икону взялся рисовать?
Рядом сидел не то Панин, не то Харин. Он тоже захотел поучить Рублева. Поэтому подсказал:
— Не бывает у женщин таких длинных шей!
Можно было подумать, что у мужчин такие длинные шеи изредка случаются.
В уголке старательно чирикал карандашиком график Кабанов. Блистая знанием анатомии. Но от подсказок воздерживался. Потому, что помнил о Пикассо. И о Матиссе тоже. Про Модильяни я и не говорю.
Добровольский в этот процесс не вмешивался. Он-то понимал, что Рублев — мастер.
И вдруг я ощутил, что эти старики не воспринимают Рублева равным себе. В нем они видели легкомысленного мальчишку. Каким знали его лет тридцать назад. Несмотря на его седую голову. И пять десятков лет.
Больше Рублев на студию Добровольского не приходил.
Так кончилась рублевская студия в Доме Архитектора. И так не продолжилась рублевская школа в стенах Алтайского Союза художников.
Персональная выставка или Поиск аромата жизни
Жизнь художника — череда его произведений. Жизнь современного художника — череда участия в выставках. Хорошо, когда эти выставки зональные или республиканские. Лучше, если они персональные.
Персональная выставка Василия Федоровича Рублева состоялась в 1989 году. Первая и последняя. С одной стороны это кажется странным. Когда художник первый раз показывает всего себя после полувека жизни. С другой стороны это кажется вполне закономерным. Когда человек говорит сам себе: “Да, я готов. Я сложился как художник”.
Надо сказать, что Рублев болезненно заботился о собственном саморазвитии. Процесс становления художника в нем проистекал трудно. Осознавание себя творцом было мучительным. Судя по его рассказам. Мешали нелепости быта. Слабость здоровья. Нехватка денег. Был у Рублева период, когда он сомневался в себе. Сомневался, что он художник. По рождению. Он говорил, что мечтал из созерцателя превращаться в деятеля. Мечтал стать творцом. Как комический актер мечтает сыграть Гамлета.
Сложнее всего пробиваться сквозь непонимание ближних. Дальние не столь ревнивы. Кроме того, признанию на выставкомах мешал собственный характер. Характер максималиста. Тем более, что его суждения и вера в искусство мало чем подкреплялись. Кроме собственного темперамента. В юношеские годы, разумеется. Он так и заявлял:
— Человек стоит столько, во сколько себя оценивает…
В общем, в Союз художников Рублев вступил лишь перевалив возраст Христа. После участия в республиканской выставке. “На России” — как говорят художники. Более того, сам Комов отметил работу Рублева. Если верить свидетелям. А вот персональную выставку Рублев осилил спустя восемнадцать лет. За это время мальчик превращается в военнообязанного. Чтобы умереть за Родину. Или за искусство. Что глубоко символично.
Как бы то ни было, но Рублев пришел к своей персональной выставке. Подчиняясь естественному течению жизни. Уже были мощные наработки в рисунке. Уже состоялись в материале скульптурные произведения. Уже заинтересовались им столичные искусствоведы. И сотрудники Третьяковской галереи. Наконец, появился слой собственных учеников. Разделяющих его взгляды. И эстетические принципы. Можно было поднимать занавес. И Рублев его поднял.
Благодарные зрители пережили настоящее зрелище. Особенно искушенные. Для неискушенных экспонировались круглая скульптура и рельефы. Для штатных идеологов — гипсовые головы передовиков производства. И даже сельских механизаторов.
На этой выставке меня поразили два рублевских автопортрета. Первый с афиши. Разработанной Борисом Щербаковым — эрудитом и острословом. Кстати, симпатизировавшего нашему герою. На том бордово-черном портрете контраст света и тьмы. Из тьмы смотрит глаз Рублева. Он смотрит и видит. Потому и может воссоздать себя на грани света и тьмы. И другой автопортрет. Единственный с текстом на полях. В облаке охристо-серых пятен. Можно было сказать “золотисто-серебристых”. С драмой мира, отразившейся в его глазах. Казалось, он произносит: “Мудрый радуется Небу и знает Судьбу…”
Выставка показала кто на Алтае лучший рисовальщик. И мыслитель одновременно.
Я замирал перед знакомыми рисунками. Оформленные в паспарту они поднимались над прозой домашнего просмотра. К высотам музейного экспонирования. Стекло отделяло автора от собственных произведений. И отдаляло тоже. Рисунки становились частью общей культуры. Точнее, частью нашей цивилизации.
Знание анатомии давало художнику свободу. Знание обретало качество свободного видения. Я задумывался. То ли женское тело восхищает рисовальщика своей динамичностью? То ли восторженный художник своим духовным динамизмом делает натуру стол восхитительной? А может быть, зритель участвует в этой игре наравне с ними? А вселенский Разум руками Рублева приоткрывает свои тайны?
Раскованное рисование одного порождало раскованное мышление многих. А многих интересовали свободолюбивые идеи политического обновления общества. Поэтому журналисты пытали Рублева по поводу свободы творчества. Рублев оказался готов к такому разговору. Не только практически. Но и теоретически. Потому отвечал:
— …Безграничная свобода невыразима без рамок… Без ограничений… Общественно-значимая идея сужает безграничную свободу… Создавая тем самым реальную свободу… Позволяющую творить…
Он формулировал так. Или примерно так.
Изображения женской натуры занимало, наверное, половину экспозиции. Было очевидно, что женщина — излюбленный мотив его творчества.
Вот набросок черным соусом. Виртуозно обозначенное тело подразумевает столь же замечательную голову. И прекрасное лицо. Но не было ни глаз, ни носа, ни ушей. Было лишь движение пальцем, давшего намек на тень. Не более и не менее. Но образ! Образ живого человека уже был создан!
А вот еще рисунок. Женский торс растет из пустоты. Пугая движением формы. Точнее, ее развитием. И восхищая остротой глаза рисовальщика. Ничего не прорисовано в прямом смысле. Но все есть. Есть узнаваемые детали, которые не были деланы. Но создались. В яростном сиянии света. С потрясающей реалистичностью!
На открытии выставки я оказался свидетелем короткого диалога. Кто-то спрашивал Рублева:
— Что Вами движет, когда Вы рисуете женщину?
На что виновник тожества отвечал с улыбкой сэнсэя:
— Поиск гармонии мира… аромата жизни… и тепла…
Ответ вдохновлял своей простотой. И сложностью одновременно. Соединение божественного с бытовым позволяло разглядеть совершенно новый тип художника. Сделавшего себя. Развивающего себя. Открытого космосу. Вбирающего в себя всю красоту мира. И несущего свое собственное представление о красоте.
Рублев стал созидателем. Сохранив талант созерцателя. Он все-таки сыграл своего Гамлета.
Надгробие тезке или Как заглянуть в пропасть
В конце 80-х годов барнаульская пресса усиленно муссировала тему сохранения бывшего Нагорного кладбища. С опозданием на сорок лет. Когда сохранять стало нечего. Но ничего не поделаешь. Такова природа всякой провинциальной прессы.
Но нет худа без добра. Весной 1988 года Барнаульский горисполком принял решение о создании надгробия на месте захоронения Василия Константиновича Штильке. Известного барнаульского общественного деятеля и просветителя рубежа девятнадцатого и двадцатого веков. А захоронен он был рядом с могилой Н.М. Ядринцева. Судя по архивым фотографиям.
К тому времени у меня был уже готов проект надгробия Штильке. Мне хотелось, чтобы Рублев сделал его декоративно-художественную часть. Причем, в бронзе. Я показал ему свой проект. И Рублев взялся за работу.
Надгробие было запроектировано симметричным. С горельефным портретом по центру. Рублев слепил портрет асимметричным. Симметрия для него была неприемлема. Он так и заявлял:
— Она мертва.
Модель в мягком материале он сделал быстро. И даже как-то легко. На одном дыхании. В эти годы Рублев переживал эмоциональный подъем. Возможно, потому, что рядом был любимый человек. Это была Маргарита Соколова. Рублев не дожидался расспросов о своем последнем выборе. Он говорил сам:
— Она философ. Ее ум помогает мне синтезировать знание о мире. Я все вижу конкретно. Она видит абстрактно. И предметы, и явления…
Надо сказать, многих интересовала его интимная жизнь. По поводу женщин Рублев отвечал уклончиво. Как всякий интеллигентный человек. Он обычно говорил, мол, мы любим всех женщин, которых нам дарит судьба. Судьба улыбалась Рублеву. Иногда мне казалось, что свою женщину он воспринимает, как вселенную. А весь мир он обожает, как любимого человека. Может быть, я преувеличиваю.
Самое время сказать пару слов о Василии Федоровиче Рублеве, как о художнике. В рисунке он достиг величественной тяжести монумента. В скульптуре — виртуозной легкости рисунка. Он работал, как бы наполнившись до предела творческой энергией. Художественные образы переполняли его. Одна мысль теснила другую. Ему хотелось говорить о природе художественного творчества. Он спешил высказаться:
— …Все возникает из неведомой пропасти тайны. И через любой предмет мы можем заглянуть в пропасть…
Но я отвлекся.
Отливка горельефа была сделана на заводе “Трансмаш”. После изготовления раздельно литых фрагментов фигуры памятника Шукшину. Буквально по горячим следам. И вновь Василий увековечивал Василия.
Я невольно сравнивал Штильке и Рублева. Их объединяли не только имена. И не наличие бород. Их объединяла идея просветительства. Одна яркая жизнь прикасалась к другой яркой жизни. Или дополняла ее. Последнее нравится мне больше.
Заказчиком на эту работу было назначено Управление благоустройства города. Мы планировали установить надгробие в 1990 году. Из красного полированного гранита. К тому времени Колыванский камнерезный завод уже не мог готовить крупноразмерные гранитные блоки. Дореволюционное оборудование безнадежно устарело. На нем невозможно было выпилить блок с параллельными гранями. Поэтому заказ и спецификация на гранитные изделия были направлены в Ленинград. Где и застряли. По причине неожиданного удорожания работ. Раскруичвалась инфляция. Которую никто всерьез не воспринимал. Сроки изготовления оказались сорваны. А договор продлен. Но вновь сорван. По простой причине. Все силы крупнейших художественно-производственных комбинатов страны были брошены на завершение монументального комплекса на Поклонной горе. Комплекса, на мой взгляд, наивного в своей претенциозности. Банального по форме и по содержанию. Более того, ложного по месту и запоздалого по времени. Но я опять отвлекся.
И стало ясно: в ближайшие годы надгробие Штильке в Барнауле возведено не будет.
А в начале 1990 года Рублев оказался на операционном столе. Один на один с жизнью. Или со смертью.
Я приехал к нему. Он спустился вниз. Его лицо являло собой поле боя. Как снег под пеплом. Страдание боролось с надеждой. Надежда пересиливала. Он распахнул больничный халат. Обнажив заклеенную пластырем область солнечного сплетения. Я внутренне содрогнулся. И вспомнил его слова:
— …И через любой предмет мы можем заглянуть в пропасть…
“Жницы” или Ступеньки к пластическим идеям
Ранней весною я заглянул к Рублеву. В его мастерскую. Кроме всего прочего у меня были к нему служебные дела. Горельеф для нагробия Штильке еще не был отлит. А время поджимало.
Он встретил меня босой. Несмотря на холод. И послеоперационное измождение. Я понял, что он сознательно мобилизует свой организм на борьбу за выживание.
Кругом стояли мятые ведра. Висели рабочие халаты. Пестрела кухонная посуда. В мастерской чувствовалось присутствие женщины.
Рублев сказал:
— Маргарита мне помогает…
Я вспомнил Булгакова. И фантасмагорию нелепостей российской жизни. Умирающих гениев. Таскающих неподъемные тяжести баб. Равнодушных к народу энтузиастов. Погрязший в пороках сам народ…
В мастерской было непривычно тесно. И сумрачно. На витраже висели картоны и шаблоны. Расчерченные углем. Сырела глина. Укутанная кусками грязного полиэтилена.
Рублев распахивал полиэтилен. Поливал глиняную модель из чайника. Чтоб не рассыхалась. Оказывается, он делал монументальный комплекс для Кулундинского района.
Так бывает. Чем глуше деревня, тем больше амбиций у местного руководства. И тем грандиознее замыслы. Особенно в идейно-политической сфере.
Тем не менее, Рублев умело расправлялся со своей задачей. Я сожалел: рублевское творение уходило на сторону.
В целом, монумент представлял собою курган, подрезанный у основания системой полукружных подпорных стенок. Задуманных автором, как многофигурные рельефы. Монумент был заказан, как военный. К сорокапятилетию Победы над фашистской Германией. С музеем, с обелиском и пятью рельефами.
Рублев остановился на достаточности четырех. На четырех святынях. Этими святынями были: ХЛЕБ, СЕМЬЯ, ЗНАМЯ и ПАМЯТЬ. По его разумению. Сообразно с этими выводами менялось идейно-художественное решение. Поднимаясь с уровня банального юбилейного памятника до высот художественного произведения. Увековечивая истинные ценности человечества. Так часто случается. Когда к художественному образу подкрадываются через философское осмысление проблемы. Что справедливо не только для изобразительного искусства.
Объективности ради замечу, что эту работу Рублев выполнял со своим другом Квасовым.
Тема ПАМЯТИ решалась Рублевым, как связь трех поколений. Прием в искусстве не новый. Формально это была сведенная в центр трехфигурная композиция. Это были скорбящие: девушка, зрелая женщина и старик. Но автор нашел выразительное пластическое решение. Восхищающее ритмическим построением форм. И внутренним душевным напряжением. Или даже движением. Несмотря на статуарность. В обиходе эта композиция называлась “Плач”.
Тема СЕМЬИ оказалась решена столь же великолепно. Смысловым центром ее был ребенок. Точнее — младенец. Символ жертвы и надежды на продолжение жизни. О чем я, кажется, однажды упоминал. Что интересно, Рублеву удалось создать эту композицию многоплановой. Несмотря на пространственные ограничения, свойственные горельефу. Эта часть монумента называлась “Любовь”.
Здесь мне хочется чуть отвлечься. Рублев воспринимал рождение и любовь, как неразрывное целое. Но довольно оригинальным образом. Потому, что заявлял:
— Человек рождается тогда, когда почувствует любовь к жизни…
Возвращаюсь к описанию несостоявшегося Кулундинского монумента.
Тема ЗНАМЕНИ была обозначена традиционно. Особенно для советского монументального искусства. Или даже для Алтайской практики. Два пышнотелых автоматчика со звездами замирали у развевающегося знамени. Видимо, слабость изначального конкретного посыла не могла дать пищи для художественного воплощения идеи. Хотя, формально горельеф был сделан красиво. Особенно драпировки. Сам Рублев называл композицию “Клятва”. И потратил на нее больше сил и времени, чем на остальные.
И, наконец, тема ХЛЕБА. Вечная тема. Маэстро максимально упростил фон. Две женские фигуры в разнонаправленных движениях. Две жницы. Удивительно динамично разворачивающаяся в пространстве. И, естественно, развивающаяся в русле русского искусства. Есть в том некая традиция. Идущая от мастеров Византийской иконописи, через восхитительно-наивного Алексея Венецианова к Василию Рублеву.
Однажды, в порыве откровенности, Рублев сказал, мол, истинно велик он был только в рисунке. Мастер скромничал. Видимо, помня о нереализованности в вечном материале своих лучших работ. Все же он был велик в скульптуре. И тысячи рисунков — лишь ступеньки к его пластическим идеям.
Но Рублев не говорил об этом громко. Он ходил босиком. Мобилизуя организм на борьбу за выживание.
Я всегда подозревал, что Рублев в душе архитектор. Хотя притворяется скульптором. И дело не в том, что он занимается организацией пространства. Не важно — на листе ли, на станке ли.
Однажды вечером я оказался у него в мастерской. После особенно хлопотного рабочего дня. На подгибающихся ногах. И с заторможенной реакцией.
В мастерской висело необычное произведение. На архитектурном слэнге это звучит так: “Замкнутый объем помещения был освоен пространственно-развитой кинетической скульптурной композицией”. Точнее, напряжение пространства мастерской создавала вантовая конструкция. Причем, в состоянии неустойчивого равновесия. Короче, в мастерской Рублева висели огромные качели. Из длинной доски. И капроновых веревок.
Я сделал круглые глаза.
Рублев тотчас начал развивать идею о пользе перемещения в пространстве. Для человека. Я согласился в отношении расширения кругозора. Он настаивал в отношении пробуждения сознания. Особенно заторможенного. С этими словами хозяин мастерской убедил меня сползти с табуретки. И воссесть на качели. Прямо в пиджаке. И галстуке.
Рублев посоветовал закрыть глаза. Я повиновался. Внезапно я почувствовал движение. Вне себя. Помимо своей воли. Мелькнула мысль о левитации и забылась. Сладостное ощущение полета объяло тело. Как предощущение счастья. В хаосе бытия. Я снова стал ребенком. И нечто забытое возвращалось. И душа наполнялась радость. Встречи с этим забытым. И хотелось удержать драгоценное это. Мерцающим сознанием…
Возвращение в реальность было почти катастрофой.
Но здесь меня ждал мастер. С сияющими глазами. И улыбкой искусителя. Он сладко произнес:
— Вот теперь можно смотреть рисуночки…
Я спустился вниз. И понял почему дети так любят качели. Перемещения в пространстве ведут к изменению сознания. Они ведут к опьяненному состоянию души. И к восторженному восприятию жизни. Или мира. Если угодно. А я был таким же ребенком. Как и тридцать лет тому назад.
Рублев раскладывал свои новые наброски. На цветном фоне. Сангина с мелом. Пастель. Его неспешная манера рисования позволяла создавать НЕЧТО самым рациональным способом. По этому поводу он частенько повторял:
— Забота о целом предполагает экономию усилий. Целое открывается через минимум средств…
Я заметил, что от встречи к встрече Рублев увеличивает цветность своей графики. Переходя на сложные цветовые пятна. Он пояснил:
— Я пытаюсь выйти на живопись…
Он шел ТУДА нестандартным путем. Не через цвет. Но через форму. И через свет. Усложняя себе задачу. Чтобы решать ее не аналитическим способом. А интуитивным. Как подобает стихийно-чувственному живописцу. В отличие от сознательно-разумного архитектора. Если не ошибаюсь. Может быть поэтому то и дело возникал разговор о необходимости восторженного мировосприятия. Или о его желаемости. Однажды Рублев заявил:
— Научиться рисовать — значит научиться радоваться…
Я иногда думаю, зачем он мне все рассказывал. И все показывал. То ли он знал, что я когда-нибудь все это вспомню? То ли он рассказывал это всем? А может быть, он не мог не раскрываться. Как цветок. В пору цветения. Следуя закону природы.
Его размышления о живописи закономерно переплетались с идеями о вечности. И о бессмертии. Он так и заявлял:
— Если художник взялся за кисть, он не имеет права быть мертвым…
Понятно, что речь шла не о телесной смерти. А о работе души. Настораживала лишь тема смерти. Настораживала кого угодно. Только не самого Рублева.
— Смерть, — говорил он, — вестница неисчерпаемых превращений.
Я стоял на материалистических позициях. Поэтому упирался:
— Смерть — переход высокоорганизованной материи в состояние хаоса.
На что Рублев отвечал с энтузиазмом. Но осмысленно:
— Первозданный хаос не отличается от хаоса эстетически переживаемой жизни…
Здесь мои аргументы кончались. Потому, что не согласиться с ним я не мог. Помня о пользе любования щепочкой. Помня об удовольствии от постижения внутреннего свойства вещей. И радости перемещения в пространстве. Хотя бы на качелях.
Флейта или Откровение по ту сторону слов
В мастерской у Рублева всегда были музыкальные инструменты. Преимущественно гитары и флейты. Такое вот пристрастие художника к звукоизвлечению. Струнному и духовному. Флейт было много. В основном это были блок-флейты. Припоминаю флейту-пикколо. А может быть и флажолет.
Играть на флейте Рублев учился самостоятельно. И предлагал остальным:
— Это очень просто…
Он произносил это с обезоруживающей убежденностью. Как заботливый родитель. Уча малыша застегивать пуговичку.
Рублев был музыкален. И любил всякий инструмент. Флейту он слушал во всех углах своей мастерской. Искал лучшее звучание. Искал это место даже на лестничной клетке. Как эмпирический акустик. И эту точку он все-таки нащупал. Точнее, выслушал.
Когда светлоокий Рублев касался губами флейты все замирало. Чтобы затрепетать чуть позже. Подчиняясь чарующим звукам. Казалось, мелодия исходила не от человека. А из самой вечности. Некая сила разливалась вокруг. И даже скорбь становилась светлой. (Прошу прощения. Про светлую скорбь где-то уже было.)
Сам Рублев выразился однажды так:
— …Кто слышал флейту человека, но не слыхал еще флейты Неба…
Мне показалось, что Небо прозвучало, как имя одушевленное. Но Василий Рублев не был религиозен. В христианском смысле. Однако, жил под чарами красоты и искусства. Похоже, его религией была красота. Точнее, эстетическое впечатление от мира. Которое сродни религиозному. Особенно для одаренных натур. Сам Рублев устраивал проповеди о необходимости духовного самосовершенствования. Что не является поводом думать его набожности. Тем более, что обращение к Всевышнему у него было интимно-фамильярное. Он так и восклицал:
— Боженька ты мой, как это красиво!
И продолжал вести мелодию. Закрыв глаза. И забыв о гостях.
Порой у меня возникало подозрение. Переходящее в ревность. Мне казалось, что Рублев музыку любит больше, чем изобразительное искусство. Правда, подозрения гасли с последними звуками флейты. И первыми словами флейтиста. О том, что игра на флейте помогает ему видеть цвет. Как он выражался: “Возвращает колористическое зрение”.
Я думаю, что Рублев развивался, как универсальный художник. Он содрал с себя шоры узкого ремесленничества. А может быть и не надевал их. Он не ограничивал себя материалом. Или видом. А также жанром. В его арсенале были цвет, звук, слово. Иначе говоря: живопись, музыка, литература. Он всматривался в глубину цвета. Он вслушивался в глубину звука. Он вдумывался в глубину слова. Он шел по пути погружения в их волнующие глубины. Он искал радости в этой погруженности. И, похоже, находил. При этом сознавался:
— Меня это греет…
Видимо, Рублев вынашивал идеи синтетического искусства. Потому, что говорил:
— Музыка говорит о том же пространстве, что и живопись…
Это было откровение мастера. Откровение, возникшее из глубин восторженного созерцания чуда жизни. Откровение по ту сторону звуков. По ту сторону знаков. По ту сторону слов.
Последняя тайна или Зачем быть вторым
Рублев для многих был загадкой. Нет, вру — для немногих. Тех, с кем его близко сводила судьба. Чем ближе знаешь, тем больше открывается непознаваемого. Он раскрывался лишь в беседах. Особенно в добрых. Не в диспутах, не в докладах, не в официальных прениях.
Я заметил, что на него давил груз фамилии. Рублев чувствовал некую моральную ответственность перед великим однофамильцем. Однофамильцем ли?
Он смог перенять опыт русских иконописцев. В части лаконичности рисунка. И величественности образов. Если верить его другу Квасову. И собственным глазам. Божественно-монументальное рисование Василия Рублева вызывала восторг у друзей. И недоумение у посторонних:
— Неужели он так искусен?
Студийцы горячились:
— Он гениален!
Сам Рублев отвечал уклончиво:
— У меня есть Путь…
Именно так, с большой буквы.
Забавные отношения сложились у Василия Федоровича с большинством студийцев. С одной стороны он вел себя, как равный среди равных. Что провоцировало обращаться к нему на “ты”. И в то же время никто не хотел нечаянно оскорбить его панибратством. С другой стороны пропасть разделяла учителя и учеников. Что побуждало относиться к Рублеву с большим пиететом. Но делало смехотворным разговор на “вы”. Поэтому в разговоре избегали прямого обращения. Конструируя вопросы так:
— Можно ли достичь уровня Рублева?
Василий Федорович отвечал аллегориями. Но честно:
— Невозможно. Я уже ушел на двенадцать лет вперед… И нет смысла тягаться… Я взращиваю свое дерево… Каждый должен обихаживать свое дерево… Зависть не даст развиться собственному цветку…
Рублев умолкал. Но брови его продолжали жить на лице самостоятельно. Как бы проявляя дальнейшее биение мысли.
Душеспасительные беседы продолжались позже. И под иным углом зрения. Зато с вином. Рублев уверял, что врачи разрешают ему пить слабенькие вина. Более того, рекомендуют. Якобы это стимулирует переваривание пищи желудком. Точнее, при его отсутствии. Я соглашался. Но с оговорками. Напоминая об умеренности. Собеседник тоже соглашался. Но цитировал древних китайцев. Уверявших о пользе слабоалкогольных напитков. Помогающих раскованному Духу подняться к вершинам творчества. Которое Рублев толковал исключительно, как повод для радости. Он так и заявлял:
— Моя радость всегда со мной…
Потом обобщал:
— …Жизнь — вот совершенно естественная радость.
После чего разговор непостижимым образом переходил с духовной темы на материальную. Видимо, собственная жизнь не всегда была праздником. Особенно в браке. Потому, что дальше он развивал свою мысль примерно так:
— Чем свободнее мы от всего, что наполняет нашу жизнь, тем больше мы способны объять собой. Тем больше в нашей душе покоя… Покой — вот фундамент настоящей радости…
И делал логический, но неожиданный вывод:
— …Мудрец покоен в своей бедности.
Я соглашался:
— Хорошо, что мы не мудрецы…
Похоже, тема мудрости интересовала Рублева. Или даже волновала. Однажды он заявил:
— Истинная мудрость сокрыта от света…
Он так и выразился “сокрыта”. Высоким штилем. Потом продолжил:
— Мудрость — это метафора истины… Это след просветленного Духа…
И еще что-то про маску естества. Или декор сущности. Про тот самый декор. Из сферы искусства. Кажется, мы сошлись на том, что мудрость это синтез ума и чувства. Обобщив все возможное. Но Рублев предпочитал более тонкие формулировки. Или более чувственные. Поэтому подытожил:
— Все-таки, мудрость — это союз понимания и радости…
Он оставался верен восточной философии. Несмотря на европейское образование. Вообще, этот человек пытался соединить разъединенное: Восток и Запад. Соединить то, что существует самостоятельно. И самодостаточно. Зачем он это делал? Видимо, искал свой путь. Или уже шел по нему. Ведь та стыке культур может отыскаться нечто необыкновенное. Как на стыке наук. Или жанров.
Этот ход Рублев пытался использовать в своей декоративной живописи. Во всяком случае, мне так показалось. Но ярче всего этот феномен проявился в некоторых его автопортретах.
В его мастерской висел автопортрет с персональной выставки. Портрет с текстом в композиции. Мысленно я называл его “оранжевым”. Втертые друг в друга сангина, угол и мел лепили плоть автора. На тонированной картонке. Свет обтекал вдохновенного волхва. И сосредоточенный взгляд. Сквозь зрителя. И внутрь себя. Восточное самосозерцание. Постижение глубины собственного сознания. Если говорить о содержании произведения. И западная самореализация. Осмысление материального. Если говорить о внешних атрибутах портрета. О форме, то бишь.
Я часто разглядывал этот автопортрет. И подозревал, что в силах достичь какой же виртуозности исполнения. Однажды я сказал Рублеву об этом. Правда, в деликатном виде.
Рублев остался спокоен. Как Будда. И ответил:
— Тот, кто сравнился с учителем, достиг лишь половины учительской силы… Тот, кто превзошел учителя, может быть его наследником..
Мысль эта мне сильно понравилась. И я подумал, что стать учеником ответственнее, чем быть учителем. Но испугался собственных умозаключений.
И еще Рублев сказал:
— Стань вторым. И ты станешь первым…
И первый раз в жизни я его не понял. И эта мысль осталась для меня тайной. Но мне нравится, что у меня есть эта тайна.
Вот и близятся к завершению мои сумбурные воспоминания. Или впечатления, если угодно. От встреч с Василием Федоровичем Рублевым. Не все, конечно. Но те, которым мне захотелось поделиться с любопытным читателем.
Я не воспроизвел полной картины жизни Рублева. Да и не собирался. Зато попытался найти некоторые слова правды. И если пришли эти слова, значит я к ним шел.
Сам Рублев к словам относился с предубеждением. И выражался примерно так: “Каждое слово имеет смысл только в конкретной ситуации… Слово — только намек на истину, лежащую по ту сторону слова…”
Я заметил, что он больше думал об истине. Нежели о правде. Видимо, поиск истины более привлекателен. Поскольку истина — категория вечная. Может быть даже абсолютная. А правда — всегда относительна. В смысле — временная. Как вечная красота и сиюминутная красивость.
Он верил, что в жизни все сходится наилучшим образом. Причем, само собою. Или хотел верить. Он верил, что подлинная красота обязательно должна быть истинной пользой. И настоящей добродетелью. Он часто повторял:
— Наш путь — путь развития… Путь жизни искусства…
Эту тему он иногда трансформировал. Переходя из идейно-созидательной плоскости в философско-этическую. Это звучало примерно так:
— Первоначала нет… Есть наш подлинный облик. И свершаемый нами путь…
Идея смысла жизни всегда звучала в разговорах. Иногда даже в случайных репликах. Что подтверждает направленность его умственной работы.
Однажды я записал такую фразу: “Стать настоящим хозяином жизни сможет от, кто позволит жизни быть тем, чем она есть…”
Я поежился. Бездна открывалась за смыслом этих слов. Или наоборот, пряталась. Во всяком случае, простое становилось недосягаемым. А сложное упрощалось. И тайны жизни проявлялись на ее поверхности. Как в светлом зеркале.
Рублев стал тем, кем он стал.
Он излучал несокрушимую мощь жизни. Он привлекал к себе людей. Он воздействовал на мир, не обнаруживая себя явно. Он не требовал власти. Но чуткие люди шли за ним. Он не доказывал своей правоты. Но чуткие люди верили ему.
Он погрузился в поток творческого самообновления. Он вошел в духовное соприкосновение с другими жизнями. И другими судьбами. Достигнув предела своего существования.

 г. Барнаул, ул. Молодежная, 5
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5