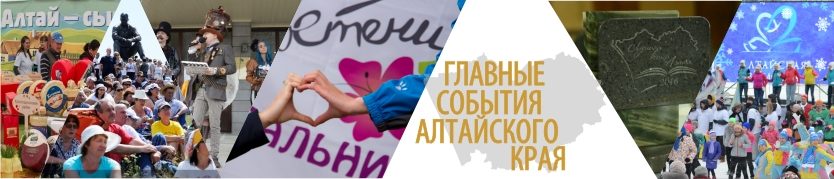Булах И.В. МАЛИНОВЫЙ ЗВОН
| Источник: Материалы переданы автором |
Булах И.В. МАЛИНОВЫЙ ЗВОН Рассказы |
Home |
СОДЕРЖАНИЕ:
| Король Лир из Бесштанки | Будем здоровы
Бабье лето
ЧТО ПРИШЛО ПРОЦВЕСТЬ И УМЕРЕТЬ |
Король Лир из Бесштанки
(Момент истины души)
Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам.
У. Шекспир
Жил у нас в Покровке (раньше её называли Бесштанкой) Илья Романович Королёв. Всю жизнь проработал в Мамонтовском лесхозе. Мужик ядрёный, кряжистый, и вечно он в смоле, и вечно от него духмяным запахом бора отдавало, и не мудрено, был он лесником-объездчиком.
Зарплата, правда, небольшая, но, если не врут, то ещё Пётр I сказывал, что лесник и с малой зарплатой проживёт. При такой работе, да ещё с головой, больших окладов лесники и не требовали. А голова у Ильи Романовича была. Он держал много скотины, благо, сена вволю, и ещё держал до сорока ульев с пчёлками. И вообще жил справно.
Троих ребятишек поднял на ноги, жаль только, все девки, но тут уж как получилось. Две старшие, Таисья и Зинаида, в город подались, институт закончили, видные девки и гладкие. Как только домой возвернулись, так сразу замуж и выскочили. И не за кого попадя – одна за агронома, другая за главного инженера колхоза. Как они замуж выходили, про то можно и погодить, а вот про меньшенькую дочь, Васеню, сказать стоит. Такое же ласковое дитя было и доброе, но родилась с изъяном, ножка у неё малость попорченная, прихрамывала. Жалели её шибче всех, а старшие девчонки её недолюбливали, ревновали и за глаза звали Серой Шейкой, по сказке про уточку значит, что летать не могла как все. А лицом и характером была похожа на мать.
Закончила Васеня школу, а дальше учиться и не пришлось, беда у них случилась в семье, и пошла она работать в детский сад. Там ей самое место.
А беда случилась нежданная: захворала мать, что-то приключилось у неё с головой, боли страшные, до обмороков доходило. Свозил её Илья Романович в областную больницу, там полечили-полечили, ладом не разобрались и выписали. Вроде ей даже полегчало, а потом сразу так скрутило, что в своей районной больнице она сердешная и умерла.
И что интересно, деньги, нажитые за всю жизнь, она куда-то так захоронила, что не могли найти. А денег было, ой как не мало, она берегла каждую копейку, всё хотела детям приданое справить. Про свою бухгалтерию даже Илье Романовичу не сказывала, а тут померла в одночасье и нет следов. Всё перерыли в доме, кладовках. Излазили чердаки, сараи, перетрясли и перещупали постель, осмотрели ящики, банки, железным щупом обследовали погреб, подполье, огород – нет денег!
Тут старшенькие доченьки-то и взвыли. Им надо, край, замуж, они с высшим образованием, при нежном теле, с гонором, а получается, что нищенками с тятиного двора съезжают. Ох уж и лютовали.
Илья Романович видит такое дело, продал пчёл, почти всю скотину, свадьбы пришлись на один год, а это – что пожар. Если со стороны смотреть, то всё было и неплохо, не хуже чем у людей, но девки-то знали, сколько было у мамани в загашнике, а потому так обиделись на неё и тятю, что хоть и жили в одной деревне, а как съехали к мужьям, так и глаз не казали.
Остался он один в четырёх стенах с Васеней. Та работящая была, особой красотой Бог не наделил, но зато дал ей ума и доброты с избытком. Запил, было, Илья Романович с горя, а она его так утешила, такие слова нашла, что он как очнулся. И бросил. Уж больно она на мать похожа, поглядит на неё и как будто видит свою Паранюшку, только в молодости.
А тут и её судьба решилась. Вернулся с флота Костя Кудрявцев. Жених хоть куда: весь в якорях, тельняшка зеброй, отличник боевой и политической, а уж собой ладный! Девки за ним гужом, а он, возьми, и прибился к Васене. Вся деревня так и ахнула! Родитель его, Михаил Власыч, прямо опешил. Работал в быткомбинате, нравом был мужик крутой, даже сапожной колодкой его по затылку съездил.
— Та ты что, парень? У тя на плечах чё? Тыква? У них шиш в кармане, у нас вошь на аркане, а как жить-то собираешься? Она хромоножка, не помощница тебе в хозяйстве. Илюшка-то тех девок без ничего спроводил со двора, а этой вообще свадьбу играть не будет. Вот увидишь.
Костя был парень упрямый, умный, он в Васене разглядел то, что другие и не видели, да и не льстился на большое приданое.
— Глянется она мне, тятя. А что хроменькая, так я её жалеть буду. Зато душа у неё добрая и глаза ласковые, тёплые.
— Ду-урак! – только и сказал отец. И ещё добавил: – Твоя воля, живи, как знаешь. Душа… глаза… Погляжу я, как у тебя самого глаза квадратные станут да на лоб полезут от забот.
Васене жаль было оставлять отца, но он её сам благословил:
— Иди, доча. Иди с лёгким сердцем и за меня не переживай. Я свой век прожил и наша с матерью вина, что обездолили вас и не могу по-настоящему помочь. А это может твоя судьба.
Костя подхватил Васеню да в ЗАГС и без всяких перезвонов собрал ребят-дружков. Флотские, они дружные, махом всё устроили, девчонок своих прихватили, вечер у Ильи Романовича отплясали и всё. На другой день побросали кой-какие манатки в машину и укатили в Зимино. Недалеко это, за тридцать вёрст, к другу-сослуживцу. Костя правильно рассудил, так ему и ей будет спокойней. Устроился в совхозе трактористом, она – опять в детский садик. Поперву снимали угол, а на второй год совхоз выделил квартиру. И зажили.
Остался Илья Романович один, а одному тоскливо, дом кажется большим и пустым. Помучился с коровёнкой, да не мужицкое это дело, он и свёл её Васене. Как приданое. Те отказывались, но он настоял, уж больно корова была хорошая, жалко менять на деньги, а тут родному дитю всё какая-то подмога.
Сам помаленьку копошится у себя в огороде, тюкает в сараюшке. Из живности только куры, пёсик Кузя да кот Мурзик. Жил на пенсию. Каждую неделю Васеня с кем ни будь пересылала то трёхлитровую банку сметаны, то масло, а по зиме – то мясо, то сало. Частенько и сами наведывались. Перестирает ему всё, уберётся в дому, баню стопят и все намоются. В общем, заботилась о нём, а ведь сама хроменькая и хоть бы что, всё «тятя, тятя», ластится к нему. И с Костей они жили ладно, всё звали его к себе, но Илья Романович упрямился:
— Нет. Свой век я доживу в своей хате. Здесь мы с Паранюшкой, твоей матерью, начинали жить, тут я и заканчивать буду. Когда уж совсем скрутит, тогда видно будет, а вы пока сами нетвёрдо на ногах стоите.
Каждый год, в день смерти матери, Васеня с Костей обязательно приезжали к отцу. Ходили на могилку, поправляли, убирали её, поминали и опять уезжали в своё Зимино. Илье Романовичу всё как-то веселей в тот день, а Таисья с Зинаидой, хоть и живут в одном селе, ни разу, даже на родительский день, не наведались к отцу или к матери на могилу. Выходит, не могли простить матери, что ненароком обидела их. Всё серчали. Конечно, обидно отцу, у них уже свои дети, его внуки, а живут, как чужие, и ничего не поделаешь. Тут окриком или угрозой любви и ласки не добыть.
Прошло пять лет. В день смерти матери приехала Васеня с Костей, побыли и уехали, а ночью вдруг ему приснился чудной сон. Будто бы его Паранюшка вернулась домой. Обошла весь двор, оглядела избу и говорит:
— Плохо тебе, Илюша, без меня. Тут и моя вина есть. Ты вот что сделай, закажи-ка себе гроб и пусть он до твоей смерти у кого-нибудь из дочерей полежит. И не бойся, если над тобой будут смеяться. Терпи. Только запомни: ты подушку под голову сам сшей или детей попроси. И чтоб набили её не стружками, а ватой из старой матрасовки, что в сарае лежит под верстаком.
Дети тебя обижают, а ты не серчай, это значит наша с тобой вина, плохо воспитали, не тот догляд был. Дом наш пока не продавай. А меня прости, через меня у тебя не всё ладно к старости, но ты не обижайся, так уж суждено. Бог тебя не оставит. Свидемся мы, а пока поживи маленько счастливо. Порадуйся. Спасибо вам с Васенюшкой, что меня не забываете и помните.
И так всё ласково и по-хорошему говорит, ну как при жизни, а жили они с ней дружно.
Илья Романович очнулся, видит, что сидит одетый на кровати и не поймёт, сон ли это или явь? Кот Мурзик жмётся к ногам, шерсть дыбом, Кузя во дворе повизгивает, как к кому ластится, и главное, что часы-ходики, которые на стене тикали, встали. Выходит, время как остановилось. Тут вдруг петухи грянули.
Как мог перекрестился, встал, а его качает, как пьяного или с похмелья. В шкафу стояла початая бутылка водки, налил себе больше полстакана, выпил, а его даже не хмелит и вкуса не чует. Так одетым до утра и просидел, всё гадал, что это было, наваждение или явь? Может, ему это уже чудиться стало?
Нет. Зашебуршало в приёмнике, вроде, как мыши забегали и заиграл гимн. Значит, не приснилось! Но этого же быть не может! Случилось всё это при коммунистах, посоветоваться не с кем, спроси про это – засмеют. И решил он сделать так, как просила жена. Первым делом отправился в столярный цех и сразу к мастеру.
— Кондрат Лукьяныч, как бы гроб изладить?
— Запросто. Двенадцать рублей в кассу, нам наряд и после обеда можете забирать. А кому гроб-то?
— Да себе хочу.
Кондрат Лукьяныч остолбенел.
— Илья, ты же ещё живой. Ты чё торопишься? А мешок зачем приволок?
— Хочу, чтоб подушку под голову набили не стружкой, а ватой. А что живой, так это может одна видимость.
Кондрат Лукьяныч внимательно на него посмотрел, потёр рукой подбородок, ничего не поймёт, говорит:
— Чудишь ты, Илья. Мудруешь. Не-ет. Иди-ка ты отсюда и не вводи меня в грех. Валяй к директору. Будет указание, сделаем, а так и не подходи.
Подался он к директору. Долго ждал в приёмной. Дождался. Директор даже из-за стола вышел навстречу. Хороший мужик, уважительный, да и Илья Романович в своё время был на большой славе, у него на участке ни самовольного поруба, ни одного пожара и звание имел «Ударника коммунистического труда». К тому же ещё и фронтовик.
Поговорили о здоровье и у обоих оно оказалось неплохим. Директор, Николай Иванович, то ли для того, чтобы подбодрить или потрафить ему, стал даже жаловаться:
— Тебе, Илья Романович, грех обижаться, ты всю жизнь провёл в лесу, на природе работал, вот и сохранился. А я вот хоть и моложе тебя и стыдно признаться, но от этой кабинетной сидячки уже геморрой заработал вместе с радикулитом. Всё сижу с бумажками, мало двигаюсь, вот кровь и застаивается. Опять надо доставать путёвку в Белокуриху. А ты молодцом глядишь.
— Хочешь, я тебе рецепт дам, как разом эти две хвори без курорта вылечить? Нет, ты не маши руками, я по молодости как-то надсадился со стройкой, так меня дед Сикачёв вылечил. Спробуй. Не пожалеешь. Он этот метод в сорок пятом от пленных самураев узнал.
— Ну, валяй. Самураи народ серьёзный.
— Натопи пожарче баню, распарься хорошенько, потом берёшь паклю, ну льняную кудель помягче, и в керосин. Смочил и помаленьку пихаешь в проход и минут пять лежишь. И хорошо, чтобы баню стопить уже потемну.
— Почему потемну?
— А потому как надо эту паклю потом поджечь. Вот тут, говорили самураи, и образуется основной медицинский эффект. Будешь по двору носиться, как ракета, и весь твой геморрой с радикулитом за две бани – как рукой.
Что было! Сперва в кабинет влетела перепуганная секретарша, потом прибежал главный лесничий, его кабинет был как раз супротив директорского, а Николай Иванович слова сказать не может. До того смеялся, аж слёзы текут и только машет на них руками, мол, уйдите, не до вас!
Когда отсмеялся, вытер слёзы и уж потом перешёл к делу, а сам, нет-нет, опять начнёт всхлипывать и заходиться смехом.
— Ну, Илья Романович, ну и самурай. Надо врачам на курорте рассказать. Представляю, как будут носиться больные с этими фитилями. Ну, ладно. Прости, что не могу сдержаться. Говори, что у тебя.
— Просьба к тебе, Николай Иванович. Надо сделать гроб.
— Ой, Господи. И из-за этого ты столько ждал? Иди в кассу, плати двенадцать рублей и все дела. А гроб-то кому?
— В том то и дело, что мне, а Кондрат Лукьяныч к вам послал, сердится.
У Николая Ивановича, как у коня, даже губа с челюстью отвисла и рот как дупло. Затряс башкой и замахал руками перед глазами, как что-то отгонял от себя. Потом ка-ак закричит с каким-то визгом. То всё по-дружески, с заботой, а тут как с цепи сорвался, прямо, охамел, ногами сучит и верещит:
— Чёррт парршивый! Во-он отсюда! Делать ему нечего! Я покажу тебе гроб! Ты меня и впрямь до гробовой доски помнить будешь! Совсем очумел, самурай поганый! – Встал да как затопочет ногами.
Илья Романович перепужался, зайцем метнулся из кабинета директора со своим мешком и рысью подался из конторы. У секретарши глаза на лоб лезут: то директор ржал, как конь, а то рычит, как тигр, и всё из-за этого пенсионера-лесника. Что уж они там не поладили?
Директор за трубку и мастеру цеха наказ – появится Королёв, гнать в три шеи. Это только подумать, ударник коммунистического труда пришёл примерять гроб! Потом вызвал местком.
— Привезите Королёву бесплатно машину, нет, лучше два лесовоза дров-чураков, да подберите, чтоб были комли и с сучками вершинник. Пусть он их десять лет пластает колуном. А то видишь, нечем ему заняться, так он гробы запасает.
А Илье Романовичу как быть? Наступит ночь, он и начнёт маяться, места себе не находит. Как только утро, он опять с этим мешком в столярный цех. Сядет и сидит пенёчком, а Кондрату Лукьянычу гнать его по приказу начальства неудобно, свой же брат-работяга. Как-то разговорился с ним.
— Слышь, Илья. Ты это с гробом серьёзно?
— На полном серьёзе. Надо. Я же в своём уме, только вот зачем так рано, сказать не могу. Прошу тебя, Кондрат, помоги.
— Тогда давай так. Директор в четверг уезжает в командировку, вот ты с обеда и приходи. Только в бухгалтерию не суйся, мы сами без шума всё обтяпаем. Он и знать не будет.
В четверг, чуть свет, Илья Романович уже сидел со своим мешком на проходной и ждал до обеда.
Кондрат Лукьяныч за свою жизнь может больше тысячи гробов переделал, и всё были смирные клиенты, а тут надо снимать мерку с живого покойника! Вроде, как в ателье деревянный костюм примеряют. Походил он, как закройщик, с метром вокруг приятеля, а не может себя пересилить, чтоб живого мерить для могильного дела. Ну не лежит душа, хоть ты тресни.
— Ну тебя к лешему, Илюха. Ладно, раз надумал на тот свет, то – к стенке!
Так его и замерили. На стенке сперва меточку сделали, а уж потом прикинули размеры гроба, да ещё пятнадцать сантиметров прибавили на вытяжку, как ударнику коммунистического труда. С этими ударниками беда: они при жизни большую усадку дают и только в гробу распрямляются.
За час и управились, такой шикарный гробик сделали, залюбуешься. И лёгкий, и просторный, лежи хоть так, хоть эдак. Оббивать тканью не стали, ещё неизвестно, сколько покойнику жить, а ткань замарается. Кинули мешок с ватой во внутрь и крышку чуть прихватили гвоздями. Всё.
— Тебе, Илья, жениться надо, – говорит Кондрат Лукьяныч, – вон как на пенсии выдобрел, а ты канителишься с чем попало.
Ладно. Поблагодарил он мужиков, поставил литр водки, а куда теперь гроб везти? Он всё сон в голове держит, домой нельзя, надо к детям и решил податься к старшей дочери, Таисье. Дали ему машину, погрузили. Повёз.
А та сном-духом не знает, кому этот гроб привезли, переполошилась, сама-то как раз в ограде бельё развешивала. Стал ей Илья Романович объяснять: пусть, мол, на чердаке постоит, чтоб потом не канителиться, да чтоб ещё сшила подушку под голову и набила ватой, что в гробу лежит… всё же дочь… родная… выучили… в люди вывели.
Таисья как заблажит, мама родная!
— Я сама буду бояться и детей перепугаю! Убирайся со своим гробом! Чтоб духу его тут не было. И тебя вместе с ним. Совсем из ума выжил, видите ли, мать приснилась!
Снова погрузили. Теперь куда? Повезли к Зинаиде. Та вообще трусливой была. Только сгрузили гроб, она так и мякнулась в обморок. Зять инженер выскочил в галстуке, орёт на всю улицу, как медведь в жару. Народ сбежался. Что? Зачем? Почему гробы по деревне возят?
Понял Илья Романович: и тут гонят со двора. Куда дальше этот печальный транзит?
— Поехали в Зимино, к Васене, – говорит, а сам чуть не плачет.
А шофёр, Борька Гладков, был смешливый парнишка, всё похохатывал, а потом и говорит:
— Да не переживай ты, дядя Илья. Знаешь, кто ты теперь?
— Бродяга я беспризорный, вот кто. Все гонят, как собаку из церкви.
— Нет, бери выше. Это же старая классическая трагедия. Ты теперь, как король Лир, у тебя даже фамилия подходящая, Королёв! Того тоже в старости дочери-стервы к себе в дом не пустили и выгнали. Он их выучил, вырастил, за королевичей замуж выдал, как ты за инженеров, а они ему подлянку устроили. Вот и у тебя всё по Шекспиру идёт. Посмотрим, что тебе младшенькая отчебучит.
Приезжают в Зимино, а там как раз ужинать садятся. Борька Илье Романовичу и шепчет на ухо:
— Дядя Илья, давай сперва поедим, а если и по стопочке подадут, то и выпьем. Если ты опять сразу про гроб начнёшь, то ни то, что выпить, поесть не дадут. Сразу погонят.
Хорошо. Сели за стол. На нём не такая уж роскошь, но зато всё от души. Внучёк Олежек ковыляет, к деду на колени лезет, что-то лопочет. Васеня толкашится от плиты к столу, всё подливает и одно: «Кушайте, тятя, кушайте». Всё получилось, как планировал Борька. И по стопочке приняли, и по второй выпили, и разговор идёт хороший, простецкий. Но пора и к делу. Илья Романович откашлялся и торжественно начал:
— Значи, такое дело, дети, мне скоро помирать. Приснилась Параня, зовёт к себе. Теперь у меня есть своя хоромина, не хочу вас беспокоить как помру. Все мы под Богом ходим.
Хорошо начал Илья Романович и настрой держал торжественный. У Васени глаза сразу набухли, носом зашмыгала и залепетала:
— Тятя, перестаньте! Сколько на роду написано, столько и живите. Что вы загодя душу рвёте? Вы же нам не в тягость, что сразу в панику ударились?
— Ты не перебивай, а слушай. Вы не поняли меня. Я что? Я уже гроб себе сделал, а теперь не знаю, куда его пристроить. Таисья аж завизжала от злобы и страха, Зинка в омморок хряснулась, выходит одна надёжа на вас… пока на хранение, как мать во сне велела. Ну, так как? Что скажете?
— Так ты, живой-здоровый, а уже со своим гробом по району мотаешься? – Выпучил глаза Костя.
И тут случилось то, чего никак не ожидал Илья Романович. Костя вдруг заржал звонко и весело, за ним – Борька, он как-то по-бабьи аж подвизгивал. Васеня подхватила сквозь слёзы, даже внучёк Олежек, за компанию, и тот ощерился беззубым ртишком. Васеня слёзы ладошкой огребает, от смеха задыхается:
— Тятя, вы что это, серьёзно? – И опять «ха-ха!».
Смеются, черти, взахлёб, а ему поначалу даже горько стало и обидно. Может это его последнее желание на этом свете, а им хаханьки. Сперва хмурился, а потом, мало-помалу, и ему стало смешно. А что случилось то, на самом деле? Ну, приснился сон, сделал гроб, а сам живой и не знает, что дальше делать. Остаётся одно: или ездить детей пугать, или ложиться в этот гроб взаправду. А если честно, то неохота. Нет, вы только со стороны поглядите, и в самом деле смешно.
Отсмеялись и порешили так. Сон – это только сон, надо жить дальше. Проще гроб увезти к деду на квартиру, пусть на чердаке и дожидается своего хозяина, а пока самого Илью Романовича забрать к себе в Зимино. Что ж он на старости лет один мыкается при живых-то детях? Вон что уже стало по ночам мерещиться. Уломали его, но он Васене сразу одно условие:
— Шей сейчас же мне подушку для гроба, чтоб всё было в аккуратности. Бельё на смерть у меня уже есть, гроб готов, только оббить. – А сам больше куражится из-за этого сна, что жена наказала про подушку. Хоть это, думает, исполню и будет по-моему.
Васеня его давай отговаривать: куда, мол, спешить, а его как заколодило: «Шей и всё!» Костя ей маячит, как говорит, делай что велит, видишь на него какой-то стих нашёл.
Ладно. Тащит он мешок-матрасовку с комьями старой слежавшейся ваты. Вытряхнул. А на полу… Батюшки-святы!!! Ватные комки рассыпались, а в этих комках-то скатанные кругляшами деньги, обмотанные ватой и ещё перевязанные белыми нитками. И всё это вперемешку с клочьями той же слежавшейся ваты. Вишь, куда их жена-покойница ухоронила, и вроде на виду и не догадаешься. Сколько швырял он этот мешок, сколько таскал за собой, а выходит там был клад. Стали считать. Мама родная! Да куда же их столько и не сон ли это?
Нет, не сон. Илья Романович, почитай, лет двадцать держал до сорока пчелосемей, а мёд продавали. Ещё каждый год сдавали скотину и картошку. И ещё его счастье, что тогда деньги не менялись.
Как глянул он на это богачество, так и передумал умирать, а сам соображает, сон-то был вещий. Не-ет, есть на свете Бог, это ему на старости счастье подвалило за его терпение и страдания. Жениться, не жениться, а пожить ещё можно. Подумаешь, чуть перевалило за шестьдесят, это самый зрелый возраст или, как ещё говорят, молодость старости.
Думы-думами, а вот что тут началось! Шофёр Борька две ночи дома не объявлялся, позвонил жене и сказал, что машина сломалась, ремонтируется. А сами с Костей два дня ходили как угорелые. Да и не только они, все соседи были навеселе. Сам Илья Романович тоже был под мухой.
Ясно, слух пошёл, у Королёва Ильи через пять лет после смерти жены клад нашёлся. Примчались Таисья с Зинаидой. У-у, злыдни! И не моргнут. Буркалы свои наглые выкатили и лепечат:
— Тятя! Мы эти пять лет нехорошо поступали. Теперь мы это осознали и тебя любим. Уже и на могилку к маме сходили и у неё попросили прощения. И твой гроб согласны взять на сохранение и его не боимся. Но только и нам отвали деньжат, не доводи до греха и суда. Куда тебе столько денег на старости? А может, ты уже всё отдал своей Серой Шейке?
Посмотрел он на них, покачал головой, да и говорит:
— Я вам, учёные учительницы, теперь не тятя. Я для вас теперь король Лир, а кто он такой, Борька с Шекспиром знают. Его тоже две старшие доченьки на старости гнали со своего двора, как вы меня. И теперь вам, дорогие доченьки, за любовь, ласку и память о матери вот что причитается, – и показывает дулю, – и судом не стращайте. Вот когда сами деньги заработаете, тогда ими и распоряжайтесь, а эти деньги – наш с матерью труд. Ещё и на вас, неблагодарных, тратили, в люди выводили, да, видать, не довели.
После такого монолога «короля Лира» доченьки в рёв. Видят, тятя родной выпрягся и куражится, думают, может, его душа отмякнет, если ее слезами смочить, а ему без разницы, хоть зарыдайтесь. Видать за пять-то лет, наболело.
— Так что, живите в богачестве со своими горластыми анжинерами, а я уж рядышком со своей Васенюшкой, своей любимой Серой Шейкой. Они с Костей институтов не кончали, зато поумнее и добрее вас. Они меня и без денег не бросили одного. Вот так. Я уже решил, заживу с ними рядышком, своим домом. Если что, они за мной приглядят и за моими деньгами. А теперь, сгиньте с моих глаз, бесстыдницы.
И вот ещё что. В скорости припожаловал сват, Михаил Власыч, тот, что супротивничал Костиной женитьбе. Хитрый, змей, дошёл и до него слух о богачестве, теперь ему невестка Васеня дюже поглянулась, хоть и хромоножка. Повинился:
— Ты уж, сынок, тово… этово… одним словом, прости, что я тебя тогда по затылку сапожной колодкой… вишь, оно как обернулось… не разглядел…
Вот и вся история. Хотите верьте, хотите нет, но Илья Романович и сейчас живёт в Зимино. Опять пчёл завёл, чтоб без дела не сидеть, и с внучатами водится. Это ли не счастливая старость?
Правда, уже где-то через полгода, то ли душа отмякла, то ли опять жена приснилась и дала указание, но простил он старших дочерей. Всё же родная кровь. Те рады-радёшеньки, что ты! Каждой отвалил по огромному куску. Приехали с внучатами, винились, а глаза прятали. Может, и правда совесть проснулась, только уж долго она у них дремала.
Всё вроде хорошо, и в гости старшие стали приезжать, и подарками одаривать, а вот словно какая-то отметина легла на сердце у Ильи Романовича. Как ни силится, а переступить через это не может. Сам всё больше притуляется к младшенькой, у неё он душой отдыхает.
Ещё он думает: надо бы Борьку Гладкова порасспросить, чем всё кончилось у того короля Лира? Неужели не повезло мужику и младшая дочь выгнала со двора?
Бухар эмирский
(К вопросу о многожёнстве)
Мыш ь: Жениться вам надо, сосед
Крот: Так-то оно так, но жёны такие прожорливые.
Дюймовочка
По мусульманским законам разрешается иметь столько жён, сколько сумеешь прокормить, сладить, ну и на сколько позволяет здоровье. Если верить истории, то в Турции у Абдуллы-Хамида II в гареме было тысяча двести жён. Это же с ума сойти!
Наши бабы, дуры пустоголовые, говорят, что у нас в колхозе коров меньше, и даже на это поголовье держат десять бугаёв-производителей. Как же он, сердешный, один управлялся с этим бабьим колхозом?
Эмир Бухарский имел жён меньше но тоже где-то, за сотню.
У нас, православных, при социализме такого теоретически быть не могло, а вот практически, в меньших масштабах, кое-что случалось.
Работал у нас в колхозе Егор Гаврилович Малинин. Образование имел невысокое, сам – не из красавцев, даже малость рябью отдавал, нос с горбинкой, сапоги носил сорок пятого размера. Но бабы и девки его уважали и были им очень довольны. Вы же знаете, в деревне у всех есть прозвища, так вот у него было чудное и необычное – Бухар Эмирский и, конечно, неслучайное. Он поперву обижался, а потом пообвык.
Справедливости ради следует сказать, что мужик он был геройский, дерзкий, работящий, но с чудинкой. Какой-то месяц поработает на комбайне, в осенях пшеничку помолотит и опять на трактор. Очень уж любил волю и простор, чтоб по весне ветерок обдувал, жаворонок в небе звенел, всякая живность стрекотала и рядышком ручеёк картавил. Упадёт навзничь, раскинет руки, лежит на тёплой земле и слушает эту музыку. В общем чудной был.
А тут война. Как воевали сибиряки все знаю, и ему досталось по самую репицу. И под Сталинградом, и на Курской дуге, да так, что три танка под ним сгорело, железо не дюжело, а он выстоял. Вернулся домой весь в орденах, правда, малость заштопанный, зато не увечный.
Будь у него чуть побольше грамотёшки и желания, не миновать бы ему портфеля и должности, но он опять подался к своим жаворонкам. Мало погодя вот она и целина. И развернулся Егор Гаврилович во всю силушку. Тогда хлеборобы-землепашцы были на большой славе, опять же тут не всё просто и свои мерки.
Была беда с этими передовиками, что ни герой, так обязательно беспартийный. Вышла тогда такая линия ЦК: разбавить это ленивое болото рабочим человеком. Стали работяг отлавливать и заманивать в партию всякими посулами.
Навалились и на Егора Гавриловича. Секретарь парткома, Орешников, прохода не даёт:
— Пиши заявление в партию, а мы тебе за это новый трактор дадим и маяком сделаем. В газетах про тебя печатать станем.
— А у меня и старый работает, как часы, а портреты ваши мне – как зайцу стоп-сигнал. У меня морда шилом бритая.
— Мы тебе путёвку по ленинским местам дадим и «Москвич» без очереди. Неужто не охота?
— Да на хрена мне эти места, как и ваша партия? Вас вон, сколько оглоедов кормить надо. Одними взносами замордуете.
Тут он, конечно, рисковал, мог угодить не в ленинские, а в сталинские места. Но обошлось, времена настали другие, да и работник он был отличный. Долго ещё за ним так ходили и круги нарезали, и всё же заловили. Вздумал он строиться. К той поре уже был женат на Зинаиде Кротовой и надо от стариков отделяться, сами понимаете, тесно. А куда? Надо строиться, а где взять лесу?
О как, брат, было при социализме: и деньги есть, и хрен, что купишь. Он в контору, а там этот Орешников его уже караулит и враз закогтился. Видит Егор Гаврилович, нет выхода, стали торговаться, рядиться и пошли на такой бартер: он – заявление в партию, а ему сорок кубометров строевого леса. Вроде не прогадал. Пока суть да дело, пока готовился да принимали его в кандидаты, построил дом, и уже бегает у него по ограде парнишка Колька.
Ладно. Живёт помаленьку. А время послевоенное, многих мужиков на войне поубивало, вдовы в каждом селе через двор. Наш председатель их жалел, да и бригадиры тоже, ну и Егор Гаврилович туда же. Всё-таки нос горбинкой, как у кавказцев, и сапоги носил сорок пятого размера.
Вот по весне пашет он как-то огороды и заехал к доярке Нюрочке Волковой. Спахал. Ладно у него всё получилось. Пригласила она его в дом. А тогда колхозникам не полагалось паспортов и больших денег они в руках не держали, а за работу отблагодарить надо. Вот она и собрала на стол картошечки жареной, груздочки солёненькие и самогоночка, как слеза. Выпил, закусил и видит, что и вдовушка, как тот упругий груздочек-налиток, самого нежного вида, кофточка на груди лопается…
В общем, в этот день Егор Гаврилович огороды не пахал, а домой заявился средь ночи. Утром Зинаида, понятное дело, покарябала ему морду и голосила на всю улицу:
— Уходи, кобель белоглазый, к этой общипанной курице Нюрочке!
Ну, несознательная женщина, что с неё возьмёшь. Егор Гаврилович не стал спорить, и вообще он был лёгкий на подъём. Поцеловал Кольку в макушку, не взял с собой даже запасной рубахи и прямиком на другой край деревни, к Нюрочке Волковой.
О чём уж они там говорили, неизвестно, только с обеда заявился он в партком к Орешникову и говорит:
— У меня скоро кончается кандидатский стаж, и я передумал вступать в партию. Я тогда прогадал, мало запросил, гони ещё сорок кубометров на достройку дома. Пусть лесхоз даёт билет.
Парторг переполошился: за такие дела его по головке не погладят. Заспорили, пошумели, а билет Егору Гавриловичу, как фронтовику и сознательному кандидату в члены партии, дали.
Пока в парткоме хватились, во дворе у Нюрочки Волковой – гора досок и бруса. Пока реагировали (а что толку-то), у неё уже вместо развалюхи стоит желтый, как цыплёнок, новый сруб. К Новому году уже заселили красавец-дом, и Нюрочка ходит с животом, как груженая баржа.
Короче, зажил Егор Гаврилович на два дома, но по-честному, по-мусульмански. Встретит Зинаиду, ему и её жалко, да и та к той поре одумается: «Ты бы хоть зашёл, всё же законный муж, а я – не вдова, не жена. Будет с Нюрочки. Попользовалась».
— Ладно, – скажет, – жди, я подумаю.
А у Нюрочки уже Верочка в люльке агукает, дитя малое, ему и утешно, потому пока и не торопится. Живут-живут и вдруг Нюрочка взбрындит, ну найдёт на неё, начнёт блажить и корить:
— Люди говорят, ты этой змеюке Зинке опять две телеги дров привёз, а себе не торопишься, только одну. Ой, смотри, Егорка! Она тебя выставила, и я выгоню. Зачем мне такой мужик перекати-поле? Змей двурушный! Такой-сякой-разэтакий.
Егор Гаврилович молча встаёт, возьмёт Верочку на руки, потетешкает, поцелует, а Нюрочке только и скажет своё заветное:
— Перебесишься, скажешь. – И подастся на другой край деревни к Зинаиде, как на запасной аэродром.
И живут с ней год-полтора тихо мирно, до нового скандала. А бабы, дело известное, без этого не могут. Нет-нет, и эта взбеленится по пустяку. Из-за ничего, даже когда и не надо. Скажем, сидит Егор Гаврилович, курит в печную отдушину, вдруг почесал затылок и вздохнул. Просто так. Да не тут-то было!
— Что, кобель, завздыхал? Загрустил? Зна-аю! Бабы сказывали, опять по своей кикиморе затосковал? Пьянь! За стопку самогонки променяешь родную жену и родное дитя! Проваливай, змей подколодный! Потаскун! Кобель!
Он тут же молча собирается, опять Кольку в макушку поцелует и – к Нюрочке. А та ждёт не дождётся своей очереди, одной-то, поди не мёд.
Но надо сказать, что жил он по-честному, хоть и до первого скандала, очень уж он не любил бабьего визга. У него всегда одно: «Перебесишься, скажешь». И всё. Но о семьях беспокоился, скандал-скандалом, а дети не виноваты, и голова у него о них болела. Обе семьи содержал не хуже любого мусульманина. Весной обоим огороды вспашет, летом сена привезёт и даже смечет, по осени дров и угля привезёт и ещё каждой по машине зерна ссыпет. Комбайнёры тогда помногу зерна получали.
Но главное – детей не делил на своих и чужих. К той поре у каждой было по трое. Любил их, да и они к нему тянулись и, что интересно, меж собой роднились. Малые, а уже соображали, тятя-то общий и друг за дружку заступались. Оно и понятно, по фамилии были Малинины и по метрике числились Егоровичами.
Зато секретарь парткома Орешников, как узнал, что его одурачил «сознательный кандидат в партию», сразу его из этой партии и выключил. Да и побыл он в ней не больше десяти дён, пока лес из бора не вывез и не распустил на пилораме. Деревня, она и есть деревня. Как пели в Пенькове: «Не сойтись, разойтись, не сосвататься…». Встретил его и давай понужать:
— Многожёнец! Бухар Эмирский. Развёл, понимаешь, гарем. Но мы тебя под советский суд подведём! Это тебе не Мусульмания. Столько леса понапрасну извели. Ну, погоди, бугай колхозный, жди суда.
Ага. Так и посадили. С тех пор за ним и присохло это прозвище – Бухар Эмирский. А затея с судом и правда была. Где-то через месяц приходит женсовет к этому Бухару, а очередь на проживание в аккурат была за Зинаидой. Та хоть и свинарка, а сразу смикитила, что к чему. Говорит:
— Вы это бабы о чём? Мой он. Вот и гумаги с пещатями, а вот и евойные ребятишки. А что на стороне суразята растут, так они сейчас у всех солдаток есть, – и давай перечислять, у кого сколько и от кого. Бабы они же про всех знают, даже по имени ребятишек называет и кто чей. И про председателя, и про бригадиров, и даже к кому и сколько раз ходил партейный секретарь Орешников. В партии были кобели ещё те.
Потом взялась и за женсовет, оказывается, и они не без греха, а она и тут всё знает, всю родословную, от кого и у них ребятишки. Конечно, не без того, кое-что поднапутала, заспорили. Зинаида кричит:
— Мой-то хоть и кобель, но кобель совестливый, от своих детей не отказывается, а у вас всё тайком, без отчества! Как же вам, бабы, не совестно детей-то сиротить при живых отцах?
Во как. Даже стыдить начала. Когда накричались вдоволь, то порешил Женсовет, что во всём виновата проклятая война, и дети тут не при чём, а для государства это даже хорошо. Пусть бегают и растут, деревне нужны мужики, тем более, что от Егора Гавриловича ребятишки росли работящие. На том порешили и разошлись с миром, вот тебе и весь суд.
Теперь чуть о политике. Тут хуже. Работал Егор Гаврилович в колхозе всю жизнь. Работал на совесть, руки вытянулись ниже колен, а вот за свой труд ни ордена, ни медальки не заработал. Боевые заслуги есть, вся грудь аж звенит, а трудовых нет. Ну, там грамотёшка какая, премия, это ещё куда ни шло, а больше, что посерьёзней, ни-ни! Извините, Егор Гаврилович, но у нас не Турция и даже не Бухара какая. У нас, православных, райком! Не положено. Хватит с вас и восьмидесяти кубов строевого леса. За глаза. Вот так.
Сейчас он давно на пенсии. И всё кочует и везде желанный. Ко дню рождения сходятся все дети, поздравляют. А дети у него выросли путёвые, головастые. Колька на инженера выучился, Верочка в районной больнице работает доктором и другие дети все при деле. В работе хваткие, все в отца.
Да и Зинаида с Нюрочкой под конец поладили, что им теперь делить-то? Обоим сейчас под семьдесят, а Бухар Эмирский сейчас вроде колхозного мерина, как эмир он уже не могутный. Разве что поговорить или покуражиться, молодость вспомнить.
Что интересно, другим принимать мусульманскую веру не советует. Уж больно хлопотно, да и здоровье надо иметь конское.
Седьмая мишень
(Про человека с ружьём)
— Вот хороший выстрел, – сказал я графу.
— Да, – ответил он, – очень замечательный. А хорошо вы стреляете?
А.С. Пушкин
Однажды на открытии охоты я встретил Ивана Ильича Фетисова, директора школы. Надо вам сказать, что Иван Ильич – человек особый. Во-первых, умница и, во-вторых, был страстным любителем природы. Мог с ружьём на лыжах отмахать десять-двадцать километров и, если ничего не добудет, ни капли сожаления. Если принесёт зайца, от силы двух – и доволен. Больше не приносил. Считал, что охота – это отдых, а не средство набивать себе брюхо тем, что должно радовать человека. И это при том, что лучшего стрелка в районе не было.
Вот с ним-то мы и разговорились вечером у охотничьего костра. Я похвалил его ружьё и заодно поинтересовался, где и как он научился так стрелять?
— Это всё от деда. Отец у меня был агрономом и как-то к охоте его не тянуло. А вот дед был охотником-промысловиком и числился в штате зверопромхоза. Он и на пенсию ушёл из охотников. Две войны прошёл, финскую и Отечественную, и всё снайпером. Кроме орденов и медалей, у него имелось Благодарственное письмо самого Верховного, товарища Сталина, и он им очень гордился.
С начала освоения целины мои родители мотались по палаточным городкам, где зарождались новые совхозы, поэтому я с братишкой и сестрёнкой одно время жил у деда с бабушкой. Вот тогда-то дед и научил меня стрелять. Поперву всем был недоволен и сердился.
— Ну что такое, из десяти выстрелов два промаха? Не знаешь? А это значит, что тебя чужой снайпер убил. Разве так стреляют?
Я старался изо всех сил, но обязательно из десяти хоть один да промах! Все удивлялись моей меткости, а дед ворчал:
— Ты не чувствуешь ружья. Что ты трясёшься? Чего напружинился, как кот перед прыжком? Ты должен слиться в едино с ружьём и быть уверенным, что попадёшь, и даже знать, куда попадёшь. Понимаешь?
Как я ни старался, но уверенность так и не приходила. И вот однажды на осенних каникулах мы с ним поехали в Бийск. Дед тогда уже был на пенсии, и его пригласили на встречу ветеранов дивизии, которая формировалась здесь в сорок первом году.
Встречу проводил краевой военкомат совместно с Советом ветеранов. Было очень интересно, и прошла она замечательно. Было много военных, гостей, молодёжи, приехали три Героя Советского Союза и два полных кавалера орденов Славы. Краевой комиссар говорил о славном боевом пути дивизии, подвигах сибиряков, о славных традициях, воинском братстве и преемственности поколений. Ветеранам дарили подарки, моему деду вручили «командирские» часы со светящимся циферблатом.
На другой день мы с ним пошли по магазинам, и дед купил бабушке шерстяной полушалок, такой богатый, с кистями.
— Ты, Ваньша, дуй в гостиницу, а я поеду на вокзал, провожу ребят на поезд. Дёрнем ещё на посошок, кто его знает, свидимся ли ещё?
— Давай сумку, – говорю ему, – что ты с ней будешь по вокзалам мотаться?
— Нет, – отвечает, – я ещё Петьке с Наташкой гостинцев прикуплю. Вот деньги, можешь тратить хоть на мороженое, хоть на кино, ещё и останется.
Ладно. Сходил я в кино, прихожу в гостиницу. Все друзья его уже разъехались, а мы решили ехать завтра на автобусе. Жили мы тогда в верховьях Ануя, а это на автобусе добираться часов шесть, не меньше. Дед домой не торопился, говорил:
— Куда спешить? Может это моя последняя поездка в город, надо погулять.
И погулял. Смотрю, уже потемну заявляется мой дедуля, сам пьянёхонький, без сумки, без часов, без денег и главное – без шапки. А шапка у него была новая, из норки. Правда, тогда холодов ещё не было, но это же непорядок. Осень на дворе. Давай я его пытать, что да как, а он что-то промычал и бух на койку. Захрапел. Утром встал, голова у него трещит, и сам себя материт на чём свет стоит:
— Обокрали меня, Ваньша. Мазурики чёртовы. И сумку с подарками упёрли и все деньги до копейки выгребли, даже часы сняли. Это меня на вокзале обчистили. Только вздремнул на лавочке, очухался, а уже пустой. Ох, язви тебя в душеньку. Ох и дурак же я старый!
Я так и обомлел.
— Не горюй. Выкрутимся как-нибудь. За гостиницу у нас уплачено, а на билеты найдём. У тебя деньги ещё остались?
Порылся я в карманах и набралось у меня прилично мелочи, но на билеты, конечно, не хватает. Он и говорит:
— Это хорошо. Для начала даже неплохо, давай-ка их сюда.
Пошли мы на вокзал, а там рядом был тир. И стреляли там на интерес. Надо было выбить семь мишеней – и тебе приз. Что-то много денег причиталось, но выбить семь мишеней было трудно. Там была трудная последняя мишень, которая появлялась на несколько секунд, и в придачу ещё быстро двигалась.
Приходим. Дед всё разузнал, из каждой винтовки выстрелил, это как бы пристрелялся и потащил меня на улицу.
— Посиди, а я пойду опохмелюсь, видишь, как руки дрожат?
— Деда, а может, лучше пойдём на автостанцию, там кого из наших деревенских встретим и займём денег на билеты.
— Та ты что! Опозорить меня на старости хочешь? Чтоб Ефим Фетисов побирался! Ну, уж нет. Сиди и жди.
Жду. Приходит через полчаса. Весёлый. Руки не трясутся.
— Теперь пошли. Ох, как я его сейчас раздолбаю!
Заходим в тир. Дают нам по винтовке, а денег у нас осталось в самый обрез, по семь пулек на каждого. Дед хвастает:
— Давай, хозяин, готовь деньги. Сейчас я твой тир разнесу в щепки.
А тирщик смеётся:
— Сперва попади, папаша. В седьмую мишень вообще редко кто попадает.
Мой дед по этим уткам, самолётам, часам, только бах-бах-бах! Вот она пошла седьмая мишень, он и её – хлесь. Всё!
— Давай, сынок, премию.
Тирщик отсчитал деньги и уже не улыбается, а дед раздухарился и кричит, как будто он в бою и кончились боеприпасы: «Патро-оны!» Тирщик орёт ещё громче:
— Не положено! Это вам не дикий Запад и не какой-то Техас. Что, вы сюда пришли, чтоб разбогатеть? Обогатиться задумали? Совесть надо иметь, папаша. Я же так в трубу вылечу.
Дед сцепился спорить, а тот ни в какую. Не дает патроны.
— Ладно. Чёрт с тобою, – говорит дед, – у нас ещё есть семь патронов, стреляй, Ваньша, гляди, не промахнись. Запорю.
Тирщик заулыбался и прямо наседает на меня:
— Стреляй, парнишка. Пали. Не слушай деда, он на деньгах помешался.
И тут на меня, от важности момента, опять какая-то робость напала, думаю, а вдруг промахнусь? А народу набилось полный тир и все советуют: «Стреляй, пацан!» «Вот увидите, он обязательно промахнётся!» «Да куда он лезет? Промажет, как пить дать!» И это всё под руку, какая уж тут стрельба. Дед видит, что я робею, хватает мою винтовку, патроны и опять, только бах-бах, пошла седьмая мишень, он и её уронил. Весело кричит:
— Гони деньги, чёртов сын!
Зрители орут, гогочут, хвалят деда. Тирщик, от греха подальше, рассчитал деда и вытолкал всех на улицу. Кричит:
— Всё, всё. Закрыто на обед! На ремонт! На переучёт!
— Какой обед утром? Какой учёт? Давай жалобную книгу!
— Всё, всё. Приходите после обеда, у меня деньги закончились, это всё дед выгреб. Бессовестный старикашка!
Все засмеялись и стали расходиться. Опять мы пошли бродить по городу. Наш автобус идёт после обеда, так что время ещё было. Я опять предлагаю:
— Деда, давай хоть билеты купим.
— Не переживай ты. Мне, как фронтовику, всё без очереди. Давай поедим.
Пошли. На пути какая то забегаловка. Дед опять требует водки и пива, а тогда водку продавали на разлив, пей, не хочу! Я его держать, да куда там. Вообще-то он пил редко, а тут на него как нашло, давай и всё!
— Не переживай, Ваньша! Всё будет путём. Давай сюда деньги. Вот увидишь, как я его подлеца раскатаю и весь тир разнесу!
И я увидел. Притащил он меня опять в тир. Тирщик как его увидел, так даже побледнел, а потом, как стал дед стрелять, он и успокоился. Видит, дед крепко перебрал, руки у него опять трясутся и что ни выстрел то промах.
— Как, папаша, ещё берёшь патроны? – А сам ехидно подмигивает публике и у самого улыбка во всю харю. – Бери патроны, теперь не жалко.
А дед садит и садит мимо, руки ходят ходуном. Говорит:
— Всё, Ваньша, я отстрелялся. И почему ты меня в забегаловке не остановил? Если б я не напился, то все призы были наши. А теперь, что делать?
— Пацан, – говорит хитрый тирщик, – ты отдай деду свои патроны. Всё равно не выбьешь семь мишеней, тут взрослые, один из тысячи, и то редко выбивают, куда тебе. Пусть дед ещё попытается. – И смеётся ехидно, ну прямо заводит меня, паразит пухломордый.
Дед сразу ожил и вытаращил на меня глаза.
— У тебя ещё есть патроны? Вот что. Не слушай эту балаболку, стреляй. Я не могу, видишь, как меня штормит. Помни, чему я тебя учил, соберись и действуй. Седьмая мишень движется ровно шесть секунд, но ты не торопись, стреляй на четвёртой. Бери чуть ниже мушки. Забудь про всё, только избавь меня от позора.
А сам стоит, такой растерянный и пришибленный, и так мне его стало жалко. Не знаю, что тогда со мной случилось, можете и не верить, но я даже не волновался. Просто знал, должен попасть и попаду. Что-то мне мерещилось, будто я Пересвет и стою на Куликовом поле, а за мной не пьяненький дедушка, а вся Россия-матушка. Вообще-то это – бред, но со мной так и было.
Собрался. Вокруг толпа народа и все галдят под руку, а я как отключился и забыл про всё. Прижался щекой к винтовке и вдруг почувствовал!.. Честное слово, почувствовал каждый рубчик, каждую ложбинку на ней и даже длину ствола чувствую до миллиметра. Вижу только мишени и сам себе говорю: «Я их сейчас все до одной укокошу. Запросто. И мы поедем домой!» И только бах-бах-бах! Завалил шесть и тут, вот она, пошла седьмая. Я и её спокойненько на четвёртой секунде завалил!
Тирщик аж побледнел, зато все, кто был в тире, захлопали, загалдели:
— Ну и внук у тебя, дед!
— Понимать надо, в кого, – гордо отвечает дед.
— Оно и понятно, всё просадил, Скажи спасибо внуку.
— Раз на раз не приходится, – оправдывается он, – ну-ка, Ваньша, давай ещё постреляем. Да мы теперь весь тир разнесём!
Тирщик, как змей, тут как тут:
— Сколько патронов, папаша? – И суёт ему винтовку, видит, что тот пьяный и опять втравливает его.
Только я деньги в кулак, деда за руку и ходу на автостанцию. Он давай с меня деньги теребить, а я ужас каким стал деловым.
— Хватит, деда. Ты уже накомандовал. Это деньги мои, я их честно заработал, так что и тратить буду сам.
Купил билеты, а чтобы он не бурдел, купил ему бутылку пива и себе лимонада. Поехали. Нашим попутчиком оказался сосед, дядя Миша Кузнецов. Дорогой дед ему всё и рассказал про меня, как я стрелял, меня хвалил, а себя ругал.
— Молодец, Ваньша! – Похвалил меня дядя Миша. – Выходит, дед Ефим, у внука-то ума и меткости поболе чем у тебя?
— Выходит так, – согласился дед.
Дома баба Катя сделала деду, как он говорил, «конфузию» и пилила его до самой ночи.
— Стыдобища! Под старость лет позорился, чёрт кривоногий! Допился до карачек, валялся, как змей, пока не обчистили до нитки! Крохоборничать пошёл, копейки сшибать! У-у, пьяница несчастный! Так бы и дала тебе по уху, – замахивалась на деда тряпкой и даже два раза шмякнула.
Дед уже хватил ковшик медовухи и смеялся:
— Это меня-то по уху? Меня? Да меня сам Сталин уважал, краевой военком, генерал лично руку жал, часы «командирские» подарил. Генерал! А ты меня по уху?
— Генерал! Часы! Где часы? Я спрашиваю, где они? – Стыдила бабушка.
— Ну, бывает… Чего уж там… – бубнил дед.
Я рано лёг спать и от переживаний сразу как провалился. Проснулся рано утром, ещё было темно, но на кухне уже горел свет, разговаривали дед с бабушкой и слышу, вроде, как про меня. Я тихонько подкрался к двери, заглянул в щель и от изумления разинул рот. На столе лежала сумка, рядом с ней гостинцы, шаль с кистями, часы и стопка денег. Они продолжали разговор:
— Зачем же ты его так мытарил? Неужели нельзя было иначе?
— А как я с ним по-другому мог? Надо же было выбить из него эту трусость и страх. Здоровый парень, а растёт, как какой-то кисель, размазня. Ну и что из такого получится? Вот и пришлось маленько поучить. Этот тирщик поначалу не соглашался. А я тогда ему шапку и отдал. Только так согласился мне подыграть.
— С ума сошёл! Она же, знаешь, сколько сейчас стоит?
— Не дороже денег. Наживём. Пойду зимой с ружьишком и всё наверстаю с гаком. Не об этом речь, зато парень на ногах и я за него спокоен. А он с характером. Видала бы ты, как он стрелял. Молодец! Ни одна жилка не дрогнула. А потом, как он деньгами командовал. Как взрослый мужик, такой не пропадёт. А ты говоришь – шапка.
— А где ты Михаила встретил?
— На вокзале. Я ребят провожал, а он в аккурат с Барнаула приехал. Я ему и отдал сумку и велел молчать. Ну-ка, одень ещё раз шаль. Как она тебе? Глянется?
— Ну вот, зачем ты, старый, тратился зря? Что я, молоденькая? – Баба Катя вроде и строжится, а по голосу чую, довольнёхонька.
— Ты деньги-то прибери, там осталось больше тыщи, а шаль, часы и гостинцы пока прихорони, как бы Ваньша не прознал. Дня через два всё достанем, скажу, что милиция поймала воров и всё нам возвернули.
Я на цыпочках вернулся на кровать и тихо пролежал до рассвета. И всё думал. Да. Дед у меня был хоть и безграмотный, зато психолог настоящий. Это надо же, как он ловко меня в это втравил! Хоть я его и «рассекретил», но действительно после этого во мне произошёл какой-то перелом, пришла уверенность в себя и спокойствие, я «чую» оружие и стреляю без промаха. Но и без промаха он учил в живое не стрелять без надобности: «Не жадничай и ты всегда будешь с добычей».
Да. Старики, они были мудрые. Вот только какими мы и наши внуки будем? Дай-то, Бог, нам разума, любить живое и радоваться земной красоте.
Женский праздник
(Каким бывает оно, счастье?)
Посейте поступок – пожнёте привычку,
посейте привычку – пожнёте характер,
посейте характер – и вы пожнёте судьбу.
У. Теккерей
Женский праздник. Раз в год мужчины с ума сходят, как угорелые носятся по магазинам, женщины млеют в ожидании сюрпризов и в парикмахерских наводят марафет. Это 8-е Марта.
А Наде было не до причёски и маникюра, после работы поскорей бы с хозяйством управиться, детей обиходить и немножко заняться стряпнёй, праздник всё же. Володя уже был дома и старался вовсю: пошумливал на ребятишек, заставил вытирать пыль, трясти половики, а сам орудовал тряпкой.
Смотрит на мужа Надя, думает о своём, а мысли невесёлые. Всем, вроде, хорош её Володя, и живут не ссорясь уже более десятка лет, но невнимательный он какой-то. Другой, что надо подберёт и купит, а он даже носки себе и то не может купить, не то, чтобы ей флакончик духов. Правда, зарплату отдавал до копейки. А в отпуск пошёл, с мужиками подрядились строить в соседнем колхозе гараж. Месяц не появлялся дома, а принёс с этой «шабашки» сущий пустяк. Видать, прогуляли больше, чем заработали. Обидно.
Одноклассник его, Юрий Николаевич, работал завторгом райпо и потому всегда был готов помочь, а он своё: «Надь, сходи сама. Я в этих делах не разбираюсь, да и просить как-то совестно».
Вот и сейчас: «Мамин праздник, мы всё уберём сами». Как же, сами, потом за ними всё переделывай. Вечером, когда убралась по хозяйству и подоила корову, начала готовить ужин и стряпать пирог. А Володя завалился на диван, ребятишки с ним, даже Наташка вместо того, чтобы помогать матери, чуть покрутилась на кухне и – шмыг к отцу. Тормошат его, а он и рад.
— Пап, расскажи ещё что-нибудь. Ну, пап!
Что-что, а уж рассказывать Володя умел, такого наплетёт, что и не понять, где правда, а где выдумка.
— Да я вам уже всё рассказал, пусть лучше вам Ванька почитает или телевизор включите, там сегодня должен быть хороший концерт.
— Нет, ты лучше расскажи, как был маленьким или как ходил на охоту.
— Я вам уже всё рассказал, – говорит Володя.
— Ну, пап, ну миленький, ну, пожалуйста! – Сидят, как галчата, ладошки тёплые, гладят, дёргают, щекотят. Знают, бродяги, что он боится щекотки.
Смотрит на них Володя, и так ему их жалко, что сил нет. А чего жалеть-то? Сыты, одеты не хуже других, слава Богу, здоровы. Ванька уже во второй класс ходит, Алёшка в эту осень пойдёт, а там и Наташкина очередь. Первенец Ванятка весь в мать – крепенький, волос кучерявый, тянется вверх прямо на глазах. Недавно, кажется, покупали пальто, а уже мало. Средний, Алёшка, худенький, глаза чёрные-чёрные. Когда его выписали из роддома, долго болел, думали, умрёт. Ох, и страху натерпелись.
Тогда Володя места себе не находил, переживал и ругался, неизвестно на кого. Но всё обошлось. Теперь и Алёшка выдобрел, только худенький. Наташка была «поскрёбышем», немножко капризной, и Надя жалела, что она родилась не первой. Была бы уже помощница, а то за ней самой ещё ходить да ходить.
Смотрит на них Володя, смотрит и задумается. Сам-то рос в детдоме. Мать умерла до войны, а как получили похоронку на отца, жил с бабушкой, а как её не стало, определили его туда и было ему тогда столько же, как сейчас Ванятке.
Помнит, как привели его, обрядили в казённое. Первый раз проснулся и не может понять, где он – кругом чисто и светло. Потом вспомнил. Видит – все спят, вытащил из под койки новенькие чёрные блестящие ботинки и не налюбуется. Первый раз одел новую обутку.
Первые дни не наедался. Чего греха таить, хоть и стыдно было, но когда дежурил на кухне, то украдкой доедал в тарелках остатки, пока не заметил воспитатель Александр Кириллович. Он не стыдил и не сюсюкал, но с тех пор у него вроде и порции стали побольше, и вместо двух кусков хлеба ложили три. Стал наедаться. Главное, что за столом никто из ребят не удивлялся, просто не замечали, что у него добавка. Оказывается, через это прошли все.
Помнит, как пришли раз в столовую – на столах хлебницы, полные хлеба, а директор, Нина Никитична, говорит, что с этого дня хлеб можно есть, сколько кто хочет.
— Запомните, ребята, на всю жизнь этот день, он особый. Запомните. – А сама бледная и голос дрожит. Тут же стоят хмурые нянечки, воспитатели.
— Почему они все такие? – Спросил Володя.
— «Почему-почему?» Война закончилась. Нам вчера сказали и мы радовались, а сегодня утром Нине Никитичне на старшего сына похоронку принесли. После войны.
Вскоре с фронта стали возвращаться солдаты. Что ни день, то в классе у кого-нибудь из «домашняков» кто-то да вернулся. И в детдоме стали появляться люди в военной форме, правда, это было редко. Тогда все, как угорелые, бежали, и каждый думал про себя: «Это за мной… это папка!»
Обступят и у каждого в глазах такая надежда, такая тоска, что не представить тому, кто это не пережил. Были здесь даже те, кто знал, что ему не дождаться отца, уже приходила похоронка. И всё же они ждали, а вдруг…
Особенно запомнился Володе случай, как однажды появился молоденький солдат. Ещё у калитки его обступили малыши, путаются под ногами. Галдят:
— Дяденька, вы за кем приехали?
— За Витей Зайцевым. Где Витя?
Бегут, ищут, а Витя уже и сам летит. Белый, как полотно, и кажется ему, что если только не успеет, то уйдёт солдат. Успел, сам кричит:
— Папка! – Кинулся к нему и повис на шее. Витя только всхлыпывает и не разжимает рук, а солдатик сквозь слёзы:
— Не папка я – а братка твой. А папку нашего убили и Борю убили. Вдвоём мы теперь с тобой остались. – А сами опять обнялись, Витя всё всхлыпывал и у него дёргались худенькие плечи.
Чего удивляться, Витя попал в детдом, когда ему было чуть больше трёх лет, а сейчас уже скоро девять.
Как бы ни было в детдоме, а привык к его порядкам и Володя. И всё было бы хорошо, однако, нет-нет, да что-нибудь напомнит, что ты казённый, а не «домошняк». Острой болью полоснул по памяти его первый день рождения в детдоме. Как всегда, только проснулся и сразу руку под подушку – шарит, ищет гостинец. Бабушка дома всегда в этот день клала туда подарок, не ахти уж и какой – кулёк конфет-подушечек или какую постряпушку. А он и запамятовал, что не дома… сунул руку и не поверил. Как так? Ничего нет! Потом дошло. Долго плакал, не из-за подарка, конечно. Уткнулся в подушку, а воспитательница не поймёт, в чём дело, тормошит:
— Вова, что с тобой? Может, кто обидел?
А он никак не мог остановиться. Было обидно и стыдно, не маленький же.
Да. Всякое было. Теперь все разбрелись по свету и нет, кажется уголка, страны, где бы ни жили, сведённые войной его братья и сёстры. Со многими он и сейчас переписывается. Часто детям рассказывал про ребят и развесёлую жизнь в детдоме.
И впрямь, истории, чаще всего весёлые, и если послушаешь – детство у него было сплошной праздник. А когда отсмеются, нередко Надя замечала, как он пристально на кого-нибудь из детей смотрит, а в глазах – боль, и потом долго-долго ходит и молчит. Видать, мыслями где-то в дальних закоулках своей памяти.
Хлопочет Надя у себя на кухне, думает свои думки, однако, нет-нет, да прислушается, чем там Володя ребятишек развлекает? А он всё рассказывает:
— Послала меня как-то мамка в сарай, поглядеть, как там Зорька, она вот-вот должна была отелиться. Захожу, а там – волк! Я вилы на него, он руки вверх и говорит:
— Дядя, ты меня прости, это я был голодный, а так бы в сарай не полез. Возьми меня к себе жить, я дом у вас сторожить буду.
С тех пор он у нас и живёт, а назвали его Рексом. Видели, какие у него зубы и какой он серый?
— Пап, – начал что-то соображать Ванятка, – а Рекс, правда, волк? – Соображать-то соображает, а понять не может, что отец шутит. Тут же решили проверить Рекса. Стали одеваться, спорят. Надежду досада взяла, не выдержала, стала Володе выговаривать:
— Куда ты их направил? Отец называется, мелет что попало, а вы и рады.
А Володя лежит и только посмеивается.
— Мать, пускай проветрятся да заодно и Рекса покормят. Плесни и ему чего-нибудь, в честь праздничка.
Ребятня высыпала на улицу, гладят, разглядывают Рекса, удивляются.
— Как мы раньше не догадались, что Рекс – волк. Весь серый.
Вернулись. Опять за своё: «Пап, расскажи ещё что-нибудь».
А Володя уже приготовил им новую историю. Начал:
— Ладно. Слушайте. Вот вырастите вы большие, а мы с матерью уже старенькие. Приезжаете вы к нам в гости. Слышим, по улице бегут и кричат: «Ваш Ванька приехал. Глядите, вон едет!» Выходим мы с матерью – и правда. А приехал он на своей новенькой «Волге» с женой-красавицей. Сам военный – полковник, весь в орденах, ремни скрипят, медали звенят…
Ванятка слушает, прямо рот открыл, глазёнки блестят, боится моргнуть и всё жмётся к отцу.
— Вытаскивает он из машины чемоданы с подарками, чемоданы здоровенные. Все ахают, мы с матерью тоже. Открывает он первый чемодан, а там шерстяной отрез на платье матери, как у жены директора совхоза, даже лучше.
Только мы за стол, слышим, гудит самолёт. Глядь, а это Алёшка на самолёте прилетел. Покружил над деревней и сел за огородами. Вся деревня высыпала глядеть. Вылезает Алёшка в кожанке, в шлёме, как у космонавтов. «Здравствуйте, – кричит, – это я специально на самолёте прилетел, а то подарки тяжело везти». Давай мы их выгружать, а как кончили, все стали его просить, чтоб покатал. Стал он всех по очереди катать.
Тут Алёшка не выдержал, он аж вспотел, а на носу у него висит капля, но он ничего не замечает.
— Пап, можно я воспитательницу Арису Петровну покатаю?
— Катай, сынок, что нам жалко? Потом стали чемоданы открывать. Достаёт матери туфли – её любимые, как она и хотела. И ещё много всякого добра.
Наташка стала ёрзать, чтобы и на неё обратили внимание, а отец не спеша продолжает:
— Только мы хотели опять за стол, вдруг видим, – в конце деревни показалась телега, запряжённая коровой, а на телеге сидит наша Наташка в рваном платье, под глазом синяк, а на возу с узлами семеро сопливых ребятишек и все без штанов.
Наташка переменилась в лице, губы дрожат, глаза, полные слёз. Она хлоп-хлоп ресницами, а слёзы только брызь – и покатились, как бусинки. Но пока в голос ещё не ревёт, а просто глядит и не сообразит: за что же с ней так и как это – все семеро сопливые и без штанов?
Тут из кухни влетает с полотенцем Надежда, она хоть и в вполуха, а всё слышала, и давай полоскать Володю.
— Ты чего это над девчонкой издеваешься? Не видишь, что она сейчас вот-вот заревёт?
— Мать, так я что поделаю, если её муж выгнал?
— Я тебя сейчас самого выгоню, – и давай его понужать полотенцем, а заодно и «полковника» с «лётчиком». – Пошли, доченька, не слушай ты его, дурака набитого. Отец называется.
— Куда вы? Я же ещё не всё рассказал, – смеётся Володя. – Наташа, не уходи. Мы тебе разве не родня? А братья на что?
Та подумала и согласилась. Надя хлопнула дверями и ушла на кухню к своему пирогу. Минут через пять слышит, зовут её, зовут все хором, и Наташка пискливым голоском тоже тянет:
— Мама, иди сюда.
Пошла. Та же картина. Володя лежит на диване, ребятишки вокруг, только Наташа в сторонке примостилась на краешке дивана, но лицо обиженное.
— Ну что ты, мать? Тут самый разгар гулянки, подарки делят дети наши, те, что привезли. А ты ушла. Вань, давай свой здоровенный чемодан, показывай матери, что привёз.
Ванятка не поймёт в чём дело, а отец спихнул его с дивана и приказывает:
— Доставай, кому говорю. Он же под койкой.
Полез Ванятка под кровать, вытащил облезлый чемодан без ручки. Там обычно лежали альбомы, фотографии, разные бумаги.
— Открывай, – командует отец.
Открыл крышку Ванятка, а там – два больших свёртка. Разворачивает один, шуршит обёрткой, а Надя замечает, что бумага не сельповская. Она в городе, в ЦУМе, такую фирменную видела… Вот тебе и на! И впрямь, шерстяной отрез цвета морской волны. Ванятка аж опешил, а отец лежит и посмеивается.
— Мать, это тебе сынок подарок привёз. Ну, чего ты, бери. Ванька, не стой, как чучело, разверни и прикинь, к лицу ли матери такой цвет.
Ванятка уже и не знает, где здесь правда, а где вымысел, бормотнул:
— Мам, только такой цвет был.
А отец снова:
— Ну, а сестре-то что-нибудь привёз? Доставай.
Тут Ванятка вытаскивает второй свёрток, а он ещё больше первого. Наташка, как бесёнок, кинулась в общую кучу, растолкала всех, спрашивает:
— Вань, а что ты мне привёз?
Сопит Ванятка, шуршит бумагой, уж слишком огромный свёрток и перевязан бумажным шпагатом. Алёшка сбегал за ножом. Разрезали завязки. Батюшки! Новёхонькое пальто! Наташка с радости аж засмеялась, звонко так, как колокольчик, и скорее к зеркалу – примерять.
Надя тоже повеселела, поняла, какую игру затеял супруг. Вместе со всеми разглядывает подарки и, хотя в начале сердилась, но уже начала улыбаться и посмеиваться. Ждёт, что дальше будет.
— Ну, а ты, Алёша, какие гостинцы привёз? – Спрашивает.
Алёшка сообразил, что и он что-то должен был привезти, а вот что и в чём, понятно, не знал. И к отцу.
— Пап, а в чём лётчики возят гостинцы?
— Как? Ты не знаешь? Они, как только едут в гости, то парашюты выбрасывают и туда ложат гостинцы. У нас в сенцах я такой ранец видел, он на наш рюкзак похожий. Неси скорей.
Алёшка туда бегом и вот уже волокёт старый отцовский рюкзак, который Надя давно «списала» и выкинула в сарай. Ясно, что в рюкзаке что-то должно было лежать. Сунул Алёшка руку и вытаскивает квадратную коробку.
— Ты это матери, сынок, наверное, привёз? Соскучился по ней, вон сколько не виделись, – подсказывает Володя.
Алёшка бумагу долой, открывает коробку, а там желанные Надины туфли. Точь-в-точь, как у Ольги Сергеевны, жены директора совхоза. Примерила – в самый раз. А Володя нахваливает:
— Ну и сынок! Да ты просто молодец!
У того цыганские глазёнки блестят, сам лопочет:
— Мам, не жмут?
— В аккурат мои. Как же ты их выбирал?
Алёшка посмотрел на отца, тот молчит, и тогда сам нашёлся:
— Мам, так я же старался. Сам на себе примерял.
Надя прижала сына к себе, закружила по комнате и тихонько спрашивает:
— А сестрёнке ты что привёз?
Алёшка осмелел, догадался, что надо поддерживать игру и, уже не спрашивая отца, нырь в рюкзак, как в нору.
— Есть! – Весело кричит. – Сейчас посмотрим, что тут у нас. – Достал свёрток, развернули – Наташке сапожки. Правда, чуть великоваты, ну да ничего, эту зиму ей уже не носить, а на тот год в самый раз.
Все довольны, не вечер, а прямо настоящий праздник. Кричат, смеются, руками размахивают. А как иначе? Когда немножко успокоились и решили, что с подарками всё покончено, – ничего подобного. Отец лежит, посмеивается и уже обращается к Наташке:
— Доченька, ну, а ты как? Хоть какие-нибудь гостинцы прихватила от своего постылого пьяницы?
На этот раз Наташка не обиделась, даже развеселилась. Она тоже поняла, что идёт игра и с удовольствием поддержала её.
— Пап, я всего набрала, только вот не помню, куда положила.
— Тогда всё тащи сюда. Ты загляни за шифоньер.
Наташка в угол, за шифоньер, а там «авоська» – давай её теребить. Пока она управлялась, отец говорит, как рассуждает:
— Понятно, праздник женский, и подарки женщинам, а нам, мужикам, можно и попроще. И с каких это денег Наташа может купить, если у неё семеро по лавкам? Но мы не обижаемся.
В «авоське» было, действительно, скромно: лимонад, пакет с конфетами, вафли и бутылка сухого вина.
Алешка засопел и только реветь, но отец и тут нашёлся:
— Во-первых, лётчики не плачут, а потом мать с Наташей на днях поедут в Америку и навезут нам гостинцев ещё больше.
На том и порешили.
Надя подсела к мужу, на душе у неё стало светло, гладит его, как кота, а сама потихоньку, чтоб дети не слышали, спрашивает:
— Это с каких же денег, ты, папаня, столько всего набрал да ещё и всё точно по размеру?
— А помнишь «шабашку», когда в отпуске работал? Вот часть оттуда, ну и сэкономил малость. А подобрать помог Юрий Николаевич, мы с ним специально в город ездили. И потом, неужели хоть раз не могу вас побаловать? Я же старался.
Надя пристально посмотрела на мужа и уже собралась всякие нежные слова говорить, только вдруг стала принюхиваться, потом говорит:
— Чуешь? Чем-то пахнет. Откуда это дымом потянуло? Батюшки! Да это же пирог подгорел!
Толпой кинулись на кухню. Пирог, действительно, маленько подгорел, но ничего, ели его за милую душу. А телевизор в тот вечер вообще не включали. И зачем нужен какой-то концерт, если у себя дома свой праздник.
Мёртвые души Фемиды
(Или роман в вытрезвителе)
Когда страна – одна семья,
Все по любви живут и ладят;
Скажи мне, кто твой друг, и я
Скажу, за что тебя посадят.
И. Губерман
Однажды инженеров областных управлений собрали на семинар в Омске. Жили все в гостинице шинного завода. Часто собирались вечерами, и вот однажды зашла речь о законах и планировании. Мнения разделились. Одни хвалили Уголовный и Гражданский кодексы, советский Госплан и ругали перестройку с её реформами. Другие, наоборот, уверяли, что всё утрясется и пора давно это старьё менять. Спорили долго.
Инженер из Томска стал убеждать, что всё-таки основа всего – законы, инструкции, прогнозирование и, конечно, планирование. Иначе – бардак и анархия. Говорит:
— В личной жизни так же. Вот у меня всё по плану: закончил школу, институт, работаю и семью создал по науке. Женился на однокурснице, и мы с ней даже планируем детей – когда, сколько и какого пола.
Вдруг инженер завода «Сибмаш», который больше молчал, говорит:
— Друзья, товарищи и господа. Все вы в чём-то правы, но только жизнь такая штука, что не всегда её впихнёшь в систему, а зачастую основную роль решает его величество – Случай. Все эти хорошие законы, хороший Госплан и планирование личной жизни – чушь собачья.
Заспорили. Потом попросили его обосновать свою точку зрения. И он не стал ломаться.
— Начну с законов и перейду к планированию личной жизни, только попрошу не перебивать. Ещё сразу оговорюсь, чтоб вам голову не морочить и всё было понятно, будут два вступления.
Первое, о законах.
Мой дядя самых честных правил, потому как был деканом юрфака университета и, как профессор, знал назубок все наши законы и даже римское право. Между нами говоря, дядя был «чистым учёным», буквоедом, а проще – зануда. Юриспруденция для него была священным заповедником свода законов и – ни шага вправо, влево от буквы.
Хотя человек он был требовательный, зато к студентам относился с уважением и всегда им помогал, даже в ущерб своему личному времени. За эту чуткость и бескорыстие его и любили.
И вот, значит, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку постарел и стукнуло ему 60 лет и 35 лет работы на кафедре, то руководство университета говорит: «Пётр Николаевич, человек вы заслуженный, а потому мы решили – справляем вам юбилей!» Дядя был человек скромный, стал отказываться, но коллеги и родственники настояли.
Второе, о планировании личной жизни.
Со своей будущей женой я познакомился в… вытрезвителе. Да-да, в вытрезвителе. И нечего смеяться, а сперва послушайте.
***
Спросите, какая тут связь между этими двумя событиями? В жизни всё взаимосвязано, так как всегда с нами он – случай.
Юбилей дяди справляли в лучшем ресторане. Были трогательные речи, поздравления, подарки. Дядя был растроган до слёз и даже как-то помолодел. Ещё было много музыки и веселья. Короче, юбилей удался. Тем более, это явилось поводом для встречи однокурсников юрфака выпуска разных лет. Надо сказать, что среди его выпускников было много видных руководителей нашей области, а также много ответственных работников юстиции других областей: районных и городских судов, прокуратуры, милиции. Поздравить своего наставника приехали многие.
Были тут и начальник областного УВД в генеральских погонах, два областных прокурора и ещё много уважаемых людей в погонах и без них. Дядя всех называл по старой студенческой привычке Колями, Володями, Мишами и никто на это не обижался. Даже генерал с прокурорами гордились этим братством, и сейчас они были все как одна семья. Шутили по-пушкински – «Мы, птенцы гнезда Петрова!», имея в виду имя дяди – Пётр.
Поскольку, по русскому обычаю, на работе всегда говорят о водке и женщинах, а на гулянке – о работе, то в одном из перерывов у дяди завязалась полемика с судьёй из Никольского района. Тот доказывал, что многие законы и статьи Уголовного кодекса требуют доработки, а то и совсем отмены, так как изменилась основа – собственность, а следовательно, и взаимоотношения между юридическими, физическими лицами и государством. И вообще, к законам сейчас надо подходить творчески.
Приводил примеры о несоответствии преступления и наказания. Доказывал, что при Сталине и даже при Хрущёве-Брежневе, нередко вороватые чиновники попадали за решётку. Сейчас же никого из депутатов и чиновников не привлекают к суду. На всех уровнях власти действует депутатский иммунитет, у чиновников-хапуг сплошь и рядом идёт подмена уголовной ответственности на административную. А это, в лучшем случае, выговор, в худшем – увольнение с формулировкой: «Халатность».
На это дядя заметил:
— Ты, Алёша, не прав. Закон – святое дело, он – не одежда, на которую меняется мода. Надеюсь, ты не забыл ещё латынь? В Священной Римской империи говорили: «Pereat mundus et fiat justitia», что означает – пусть рушится мир, но свершится правосудие. Законы такие, какие они есть.
— Уважаемый Пётр Николаевич, – не сдавался районный судья, – в Древнем Риме придурков тоже хватало, а краснобаи там вообще любили риторику. Это красивый афоризм, не более. А в жизни под обломками этого рухнувшего мира, о котором вы говорите, гибнет не только обвиняемый, но и истец. А судья с прокурором в глазах народа, скорее, напоминают Малюту Скуратова. Не дорогая ли цена за такое правосудие?
А вот что произошло дальше.
Где-то часам к одиннадцати все гости «угорели» и стали расходиться. В служебную «Волгу» дяди сложили все подарки и завалили ими салон. Дядя говорит супруге:
— Ира, тебя Володя отвезёт домой, а мы с Витюшей прогуляемся, подышим свежим воздухом, а то что-то я сегодня не в форме.
Ладно. Идём с ним по улице. Дядя от возбуждения всё говорит и говорит, размахивает руками и походка у него не совсем твёрдая, так как его штормит и я стараюсь поддерживать. Вдруг рядом с нами тормозит «синеглазка» и лезут из неё два здоровенных мента. Сержант говорит:
— Нарушаем общественный порядок, господа? Вот это нехорошо. А тебе, дед, должно быть совестно, ты же в шляпе и очках. Прошу! Карета подана, – и открывает дверцу «воронка».
— Товарищ сержант, – удивляется дядя, – согласно статьи № 162 Кодекса РСФСР об административных нарушениях мы не позорим человеческое достоинство и не нарушаем общественный порядок…
Сержант его перебил:
— Ну и алкаш пошёл. Он ещё и про какие-то законы толкует. Нахватался в зоне всякой юридической белиберды и шпарит, как по писаному. Ну и хмырь.
— Товарищ сержант! – стал заводиться дядя. – Да как вы смеете! Это вы оскорбляете мои честь и достоинство! А согласно статьи № 130 Уголовного кодекса, как раз за это я могу вас привлечь к ответственности. Это я вам говорю как юрист, профессор и декан юрфака университета!
— Козёл ты старый, а не юрист, – стал сердиться сержант. – Профессора с деканами на персональных «Волгах» ездят, а в полночь сидят дома и не шляются пьяными по улицам.
Дядя стал перечислять какие-то статьи Конституции и Уголовного кодекса, но тут напарник сержанта лениво зевнул и советует коллеге:
— Миша. Чё ты эту гниду слушаешь? Нае… (ударь) его по хребтине «татьяной» (резиновой дубинкой) и с него всю профессорскую дурь как рукой снимет.
Но тут я вмешался. Зажал дяде рот ладошкой и прошу помолчать. Убеждаю, что с дураками лучше не связываться. Дядя послушался и всё обошлось без синяков. Нас, как щенков, зашвырнули в будку и попёрли в вытрезвитель. Приезжаем.
Тут из дяди опять полезло, стал выступать. Кричит, что это произвол и согласно статьи № 127 Уголовного кодекса «О незаконном лишении свободы», а также статьи № 57 Конституции, он имеет право на защиту и требует адвоката. Потом ляпнул, что начальник УВД области и начальник всех вытрезвителей города – его ученики и стоит только им узнать, что его незаконно задержали, то всем – хана!
Дежурный капитан говорит:
— Дедуля! Ты лучше не выступай и будь мужиком. Переспи и шагай домой. И не пугай нас своими грозными знакомыми. Вон тот алкаш тоже говорит, что он племянник нашего губернатора, а этот, которому примеряют рубаху с длинными рукавами, доказывает, что он депутат Госдумы. Ты профессор и декан, я граф Потёмкин и получается, что у нас не вытрезвитель, а клуб интересных встреч. Не хватает только балагура Жириновского.
Но дядя не успокоился и пока ждали своей очереди «на прописку», сцепился с каким-то бывалым мужиком. Тот весь в наколках и, видать, не раз топтал зону, но вежливый, как змей, и с лукавой хитрецой. Он уже протрезвился и ждал какие то бумаги, чтобы выйти на свободу опохмеляться.
А началось с того, что дядя кричит, что он юрист и профессор, законы знает. Если их соблюдают в СИЗО (следственном изоляторе) и в тюрьме, то уж в медвытрезвителе они должны соблюдаться в первую очередь, так как это временное задержание, не более чем до 12 часов.
— Профессор, – вежливо говорит Бывалый, – а вы сами-то в СИЗО или тюрьме бывали? Знаете, какие там порядки? Да там вообще бывает, сидят месяцами без предъявления обвинения и на допросы не вызывают по три-четыре месяца, а вы каких-то пять минут не можете потерпеть.
— У нас тут не зона, а в СИЗО и тюрьме за порядком должен следить прокурор по надзору, – доказывает дядя, – и, согласно статьи № 48 Конституции Российской Федерации, каждый подследственный имеет право обратиться к нему с заявлением.
— Должен-то должен, – продолжает наседать Бывалый, – только где он этот справедливый прокурор по надзору? И потом, вы сами-то верите, что если подследственный обратится с заявлением, то что-то сдвинется? Неужели это для вас новость? Бог создал законы, а черти юристов. Кажется, что вы не настоящий профессор. Может, проведём тестирование по вопросам юриспруденции на соответствие профессорского звания?
Дядя стал сердиться и говорить, что вытрезвитель – не место для дискуссий, а Бывалый, дотошный собака, начитанный и, главное, держится культурно. Вежливо наседает, а вокруг уже все с интересом следят за необычным словесным поединком бывшего зэка и настоящего профессора.
— И всё же, профессор. Столько лет преподавать и бояться простых вопросов. Вот для начала: что такое – после драки махать кулаками?
— Означает запоздалое, бесполезное действие, – буркнул дядя.
— Ответ не верный, – говорит Бывалый, – это же кассационная жалоба. Ей у нас всегда место в мусорной корзине. Следующий вопрос: какая скотина пасётся на асфальте?
— Это абсурд, в котором нет логики, – отмахнулся дядя.
— Не совсем так, вопрос простой. Вы только сосредоточьтесь.
— Ну, возможно, это пасутся какие-то сельхозживотные, – неуверенно говорит дядя.
— Ответ не верный. Это же наши работники ГАИ, соловьи-разбойники с большой дороги. Для них водительские права и дорога – кормушка. Это знают всё начальство и вся страна. Не правда ли, странная ситуация?
И ещё он задал несколько вопросов в таком же духе, и на все дядя не мог ответить, зато всем это было приятно, даже ментам.
Потом Бывалый говорит дежурному:
— Слышь, капитан, я бы на твоём месте поостерёгся и прозвонил этого бивня. Он же в законах сечёт по-чёрному, а по жизни – лох. Такими только и бывают профессора-законники и буквоеды.
Но капитану было не до него, только рыкнул:
— Заглохни!
Врач побеседовала с дядей и вынесла приговор:
— Вообще-то вы немножко перебрали. Отдохните у нас.
Дядя и тут стал спорить:
— Что значит «перебрали»? Это визуальное определение, а согласно статей № 74 и 75 Уголовно-процессуального кодекса, я имею право требовать провести медицинское освидетельствование на содержание алкоголя в крови в промилях. А уж только потом вы можете решать – отдыхать мне у вас или нет.
Но тут его стали трясти. Вывернули карманы, отобрали часы, кошелёк, сняли золотую печатку и очки в золочёной оправе, потом, как скотине, на спине тушью поставили номер. Ведут спать в «хоромы», а он и тут их поучает:
— Согласно Положения о медвытрезвителях, статья № 243 Административного кодекса, вы обязаны составить опись изъятого. Причём в присутствии двух понятых и занести в протокол об административном нарушении, а не выгребать всё и прятать.
Его уже почти запихнули в «покои», а он в одних трусах стоит в дверях и, как Ленин с броневика, шпарит:
— Учтите! Это ещё и закреплено статьями № 2, 21 и 23 Конституции Российской Федерации, в которых говорится, что честь, достоинство и доброе имя до предъявления обвинения охраняется государством и должностными лицами. В том числе и вами.
— Ох, дед, однако, ты допросишься, что придётся дать тебе успокоительную таблетку, – говорит дежурный и показывает ему резиновую дубинку. – Ладно. Иди. Спи.
Тут и моя очередь подошла «прописываться».
Честно признаюсь, я в студенчестве как-то с компанией попадал в вытрезвитель и порядки их знал, поэтому не стал выступать. Вижу за спиной дежурного сидит какой-то рыжий мент и разгадывает – кроссворд. Он, видать, это дело любил, но сам бестолковый, а потому то и дело дёргал дежурного:
— Васильев, что такое: «Наука, изучающая всё о винограде»?
Дежурный бросит свои дела с «клиентами», уставится в потолок, подумает и говорит:
— А чёрт его знает… может, «биология»?
— Нет. Здесь аж двенадцать букв, первая «а», – и опять: – Слышь, Васильев, фамилия первого человека, ступившего на поверхность Луны?
Васильев бросает дела, таращится в потолок, морщит лоб:
— Хрен его знает… может, Гагарин?
— Да ты что! Про Гагарина я знаю, это был первый генерал-губернатор Сибири, его ещё Пётр I повесил на воротах за взятки. Нам в милицейской школе говорили, когда взятки изучали, чтобы не погореть.
Потом они стали отгадывать: что носили в старину знатные французы вместо галстуков, какая страна мира экологически самая чистая и ещё много чего такого, что я уже и не помню.
Надо вам сказать, что «гимнастика для мозгов» – это было моё хобби, а кроссворды – моя болезнь. Люблю их разгадывать, сам составляю и даже несколько раз отсылал вопросы знатокам на телепередачу: «Что? Где? Когда?» и умудрился выиграть у них двенадцать тысяч рубликов. Не слабо? Говорю это не для похвальбы, а чтоб вы лучше поняли суть.
Тут меня аж затрясло, не вытерпел, говорю рыжему менту:
— Земляк, не мучься. Пиши. Наука о винограде называется – ампелография, первый человек, ступивший на Луну, – Нил Армстронг, вместо галстука французы носили жабо, самая экологически чистая страна планеты – Финляндия…
Он засопел над клеточками, потом как заорёт:
— Точно! Ё-моё! Всё сходится по горизонтали и вертикали! Ну и башка у тебя. Слышь, Васильев, какой сейчас умный и грамотный алкаш пошёл. Ну-ка, парень, проходи сюда. Неужели ты кроме ПТУ ещё что-то кончил?
Посадил меня за перегородкой и давай мы решать кроссворды. Представляете? В вытрезвителе решаю кроссворды!
Подходит врач, симпатичная девушка. В белом халатике, молодая и красивая, она тут была, как луч света в тёмном царстве. Я сразу решил, что это старшекурсница мединститута и здесь подрабатывает. Разглядывает меня, а я к той поре уже совсем пришёл в себя. Хоть и выпивши, но соображаю нормально и кроссворды щёлкаю, как орехи.
Она даже не стала меня пытать своими заморочками, вроде как: «Закройте глаза, вытяните руки и попадите пальцем себе в нос. Присядьте три раза». Говорит:
— Вы не наш «клиент», а потому идите домой. Зачем они только вас привезли? У вас же всего лишь лёгкое опьянение.
— Девушка! Милая, – говорю ей, – я не могу один идти домой. Этот чудак-профессор – мой родной дядя, и он действительно профессор и декан юрфака университета. У него сегодня был юбилей и справляли его в «Колизее». Когда вышли из ресторана, у него блажь – «Волгу» отпустил, а сам решил прогуляться и освежиться. Вот и прогулялись. Но самое смешное то, что на юбилее были и начальник областного УВД и ваш начальник по вытрезвителям, полковник Михайлов. Не поверите, но они даже целовались.
— Вы не разыгрываете меня? – спрашивает.
— Честное слово. Это легко проверить по телефону. Записывайте номер. Спросите, чья квартира и где сейчас профессор?
Она забирает меня и ведёт к себе в кабинет. Набирает номер. Пошёл вызов. Зажала трубку рукой, спрашивает меня:
— Как зовут жену профессора?
— Ирина Васильевна. Только вы ей про вытрезвитель ни-ни, иначе обморок обеспечен.
Она, молодец, мигом сориентировалась и задаёт наводящие вопросы.
— Алло! Вас беспокоят из редакции. Извиняюсь, это чья квартира? Ещё раз извиняюсь, но днём до вас не могли дозвониться… Да, да по поводу юбилея, а сам профессор Пётр Николаевич где?.. А-а, тоже беспокоитесь… А что, разве он пошёл прогуляться один?.. Ясно… с племянником Виктором. Тогда не стоит волноваться, скоро они вернутся. И ещё раз примите извинение за поздний звонок, мы завтра перезвоним. До свиданья.
Кладёт трубку.
— Да. Тут юмору, хоть отбавляй. Такое редко бывает. Вот так влипли наши ментяры. Надо выручать профессора и заодно спасать и этих козлов. Но сперва давай успокоим нервы.
Достаёт бутылку сухого вина «Монах» и коробку конфет.
— Не удивляйся, я не беру взятки, это всего лишь презент от благодарных «клиентов», которых я сумела выручить и спасти от позора вытрезвителя.
И вот сидим мы с ней, беседуем, потягиваем вино. В вытрезвителе! Представляете? Чудеса, да и только.
— Скорей бы институт закончить и уйти отсюда, – говорит она.
— Ты ещё учишься? – спрашиваю. – И ещё извини, что перешёл на «ты», но так мне удобнее, и мы как бы на равных.
— Не бери в голову. Я учусь на последнем курсе. Если б не хорошая зарплата, давно ушла.
— Что так?
— Опротивели эти пьяные хари и наглые рожи ментов. Вытрезвитель – это бизнес. Твой дядя прав: всё, что у них забирают, должно фиксироваться. А так попробуй, докажи, сколько чего было. И потом, пьяные богатые «клиенты», как правило, интеллигенты, а потому молчат, боятся позора. Менты этим и пользуются. Да ну их к чёрту. Лучше скажи, ты учишься или работаешь?
— Два года как окончил политех. Работаю инженером на «Сибмаше».
— Ты посиди тут, а я пойду по делам, – говорит она. И ушла.
И что вы думаете? Минут через пять заходит дядя. Одетый. Блестит золочёной оправой. Смеётся:
— Витюша! Произошло досадное недоразумение, но, слава Богу, разобрались и согласно статьи № 77 УК, принесли извинения. Нам даже подали персональную машину, обещали довезти до подъезда. Что я тебе говорил? Законы – великая сила. Правда, мне поначалу так не показалось.
— Пётр Николаевич, – говорит врач, – в порядке компенсации могу я предложить вам бокал хорошего вина и поздравить с юбилеем? – И наливает вино, подаёт на блюдечке ломтики лимона.
Дядя рассмеялся от души:
— А это забавно, честное слово, забавно. Пить в вытрезвителе! Мне приходилось пить после симпозиумов и конференций, но в вытрезвителе! А давайте, милая девушка. Для меня сегодня это день познания законов на практике. Пусть рушится мир, но свершится правосудие! Зря у нас не обидят.
Опять давай молиться на законы и хвалить ментов. Эх, дядя, дядя! По милости ментов и твоих законов лежал бы сейчас на персональном топчане с номерком на спине, а утром не оказалось ни денег, ни часов с золотой печаткой. Плюс позор на старости. Хорошо, что ещё не били.
Переглянулись мы с врачом и засмеялись, но разубеждать его не стали, зачем портить человеку юбилей?
Надо прощаться. Говорю:
— Столько времени вместе, а не познакомились. Представься.
— Вообще-то, когда в халате и в вытрезвителе, то я Анастасия Фёдоровна, а без халата – просто Настя.
— У меня как раз наоборот. Когда с дядей в вытрезвителе, то я Витюша, а без дяди и вытрезвителя – просто Виктор. Слушай, Настя, а можно твой номер телефона? Буду на свободе и позвоню. Честное слово, в тебе есть что-то такое… от социализма с человеческим лицом. Только час с тобой побыл и ты стала как свой парень. Не обижайся на это, но с тобой легко говорить.
— Да ради Бога. Звони. Буду ждать с нетерпением. Записывай – и смеётся.
— Ты чё?
— Романтично начинается наше знакомство. И где? В вытрезвителе! Скажу девчонкам в общаге – со смеху помрут!
Конец этой истории простой. Вот уже восемь лет как мы женаты и, скажу вам, что мне с женой повезло. У нас двое детей и мы не бегали по диагностикам, а как определено природой тех и родили. На свадьбе у нас было много гостей и, между прочим, дядя, судья Миронов с Никольского района и… полковник Михайлов, начальник всех вытрезвителей города. Во как!
Дядя даже беседовал с судьёй Мироновым. Но о чём!
— Прав ты, Алёша. По-моему, в Священной Римской империи что-то перемудрили, так как иногда буква закона заслоняет существо вопроса. Про это я случайно узнал в одном интересном месте, и то благодаря Витюше и его невесте. Могу тебя порадовать, что сейчас идёт подготовка нового свода законов Уголовного кодекса, и я включён в комиссию по разработке новых уложений.
Судья Миронов своим ушам не поверил!
Вот, собственно, и вся история о законах, планировании и его величестве – Случае.
***
Так закончил свой рассказ наш коллега с завода «Сибмаш». Опять заспорили. Сперва говорили, что это частный случай, но тут и другие стали вспоминать что-то подобное и в конце-концов пришли к таким выводам:
— пока наши законы пишутся для того, чтобы их нарушать;
— женитьба – это лотерея и самый счастливый билет, доставшийся случайно.
Про фермеров и малую авиацию
(Не Боги горшки обжигают)
Честным быть хорошо, только если вокруг тебя честные, а ты жулик.
Марк Твен
Не поверите, но со мной случилась удивительная история, да такая, что трудно и поверить, но это чистая правда.
После перестройки, ударился я в фермерство и даже заимел хорошую мельницу. И так случилось, что задолжала мне за муку краевая ДОСААФовская контора. Пельмени с блинами давно слопали, а денег не платят. Нет, говорят, у них денег. Раньше на шоферов учили только они, а тут, как грибы, лезут конкуренты: разные школы и ПТУ. В придачу все аэроклубы позакрывали, и немудрено, если уж в Барнауле лётное училище по запарке прихлопнули, то про аэроклубы и думать забудь.
Поехал разбираться. С собой для моральной и физической поддержки прихватил Саню Колупаева, тракториста. И вот почему: Саня здоровенный бугай, два раза уже зону успел потоптать, сам весь в наколках. Ещё он хорошо знал лагерный, афеньский язык и иногда для жути пускал его в ход. Сильно помогало. Да и как не поможет, если у него ещё и кулаки, как чайники.
Приезжаем. Заходим: Здороваемся. Только начальник завёл песню про трудности, тут он и встрял в беседу, зачирикал на своём рыбьем языке
— Шеф, ты этот базар в голову не бери. Этот кудлач горбатого лепит, что он бесшерстный. Ты только посмотри на его прикид и как круто он упаковал себя и свою нору. Фраер просто закрысился и гонит беса. У нас на зоне с такими знаешь что делали?
Директор хоть не всё и понял, зато струсил, стал что-то буровить, переводить стрелки на конкурентов, но Саня опять перебил его и курлыкает мне по-свойски, а в голосе уже угроза:
— Он тебе по ушам ходит. Это гнилой базар. Если нельзя вымолотить бабки, то надо этому февральке для ума дать наркоз, поставить на счётчик и передать братве. Они его раскрутят.
Как ни странно, но это подействовало, и он вдруг предлагает:
— Не надо счётчика и никакой братвы. Возьмите самолёты с аэроклуба. Они почти новые и в рабочем состоянии.
— Самолёты? А на кой чёрт они мне?
— Как?! Да вы что! Поля удобрять, саранчу и паразитов травить. Это же технический прогресс и в ногу со временем. С такой техникой вы – культурный фермер, если работаете по науке. Соглашайтесь, ведь даже у американских фермеров такого нет.
— А сколько дашь за десять тонн муки высшего сорта? – Говорю, а сам их и в глаза не видел, что за самолёты? Но, на всякий случай, давай торговаться. Привычка уже такая выработалась, сами понимаете, рынок.
— Два, – говорит.
— Ну, нет. Два самолёта – это не серьёзно. Прибавь ещё один, – а сам опять думаю, ну за каким хреном мне этот аэроклуб? Но отступать было уже поздно, думаю, в хозяйстве сгодятся. Опять же, гаишники вообще принаглели, пьяным уже и не проедешь, а как заловят, так неделю весь райотдел поишь, чтоб права вернули. А тут на аэроплане – только вжиик и чихай им на голову.
Но тут стал выступать ДОСААФщик:
— Тебе два мало? Да ты что? Это же самолёты, а не какие-то ваши сеялки-веялки. – Ещё маленько для приличия поломался и сдался: – Чёрт с тобой, впридачу даю ещё и планер. Подавись, куркуль деревенский.
— Что?! Планер? Это ещё зачем?
— Это для души. Только представь, летишь ты над своим посевным клином, над яровыми с озимыми, как птица. Ни шума тебе, ни грохота мотора. И вот ещё что, ни у кого нет, а у тебя – самолёты и персональный планер. Да ведь вся деревня от зависти с ума сойдёт. Это же круто!
Я варежку-то и раскрыл. Уговорил, сволочь. Привезли эту авиатехнику, собрали и закатили в пустой зерносклад.
У моих корешей глаза стали квадратные, только языком цокают и башкой трясут. И, правда, всё получилось круто. Что ты! Я против этих лохов – крутизна, у меня под рукой авиация, шагаю в ногу со временем. По науке.
Тут весна. Снег растаял. Отсеялись. Пока пойдут всходы, маленькая передышка. В этой суматохе и забыл, что самолёт от трактора маленько отличается. Всё было некогда, зимой ремонтировал технику, запасал горючее, а тут и посевная. Люди уже в космос по путёвкам летают, а мы что, хуже? Это же малая авиация, тихоходная. Справимся.
Как сейчас помню, праздновали День борозды. Было воскресенье. Собрались кореша-фермеры и был среди них змей Федя Перепёлкин. У него было высшее образование, и он среди нас числился самым умным. Сперва выпивали и гуляли спокойно, ну, отсеялись, святое дело. Вдруг этот Федя заегозил.
— Давайте опробуем эту малую авиацию, – говорит этот змей, а сам на меня ехидно смотрит.
Будь я потрезвей, не стал бы пробовать, но все уже были запаренные, а раз так – море по колено. Толпой пошли на зерносклад, выкатили крайний самолёт, заправили и поставили новый аккумулятор. Федя такой деловой, везде лезет, ему в каждую бочку нужно плюнуть, залез в кабину и кричит:
— Хо! Да тут всё как на мотоцикле, всё просто. Теперь давайте выберем из нас лётчика. Кто-то же должен быть первым.
Ну, дурдом! Все давай отказываться. Один говорит, что у него дети, другой открещивается и честно признаётся, что боится и хочет ещё жить, а сам Федя заявил, что его на самолёте тошнит.
Ну и, слава Богу, думаю, всё целей авиация будет, да не тут-то было. Вдруг мой Саня Колупаев раздухарился.
— Я, – говорит, – полечу. Мне всё равно не жить. Надька застукала нас с Томкой Сорокиной в бане в чём мать родила и грозится, что убьёт меня или подкастрирует. И потом, я – мотоциклист, и неужели я не сумею управлять?
— Ты что, спятил? Ты же пьяный, а эта вещь денег стоит, я за неё две машины муки высшего сорта отвалил, это не хрен собачий, а капитал.
Тут опять этот умник Федя. Ну, Федя, ну Иуда! Говорит:
— Испробовать, оно можно. Пусть Саня только заведёт, маленько по земле поелозит и не взлетает. Чего ты боишься? Капитал должен работать, от оборота должны быть проценты, это же наука, Карл Маркс. Может, самолёт ещё сгодится в слякоть – вместо трактора сеялки таскать.
Тут ещё Саня, как сокол в небо рвётся, заглотил для храбрости стакан и его не удержать. Кричит: «Горький врал, что рождённый ползать летать не может!» Все дуром заголосили: «Даёшь небо!»
Я чувствую, что добром всё это не кончится, урезониваю его:
— Саня, ну какой из тебя лётчик? У тебя права есть, чтоб самолётом управлять? Ты хоть маленько своей тыквой соображай.
— При чём здесь права? Что, эти кровопийцы-гаишники уже в небе летают со своими полосатыми палками? И потом я в кино видел как летают на «кукурузниках». Главное – крикнуть: «От винта!» и всё будет по путю.
Ладно. Мы хоть и были выпивши, но сообразили, что не надо рисковать. Решили завести мотор, опробовать на малых оборотах, а чтоб он не разогнался, притащили длинную верёвку, привязали за борону (это вроде тормоза), а другой конец приладили за хвост самолёта. Смикитили, и мы не без царя в голове!
Стали заводить мотор, и он, сволочь, на моё несчастье прочихался и ровно заработал. Саня погазовал и самолёт медленно пополз по полю, борона за ним волочится, царапает дёрн и крепко тормозит. Всё нормально, все орут от восторга дурнинушкой. Саня освоился, осмелел и кричит нам:
— Вы отвяжите борону и я чуток над землёй полетаю! А чтоб шибко не разогнался и не ушёл за облака, вы гуртом за верёвку уцепитесь и маленько побегайте, на манер как змея запускают.
Ага. Держите и бежите. Это потом, трезвые, прикинули, что надо было бежать со скоростью бешеного поросёнка, чтоб эта махина взлетела и не ушла за облака. Но тогда все были пьяные, орут: «Ура-а!». Саня помахал нам по-брежневски и кричит по-гагарински: «Поехали!» И поехали. Самолёт всё быстрее и быстрее, Саня, подлец, прочитал на табличке «руль высоты», потянул за какую-то бурульку и закрылки сработали.
Фермеры-кореша падают, отстают, им-то чертям что, самолёт чужой, а мне, хоть плачь, да беги. Бегу и чувствую, что сердце вот-вот выскочит, уже глаза на лоб лезут. Жалко, всё же десять тонн муки улетает, причём высшего сорта. Ещё Саню жалко, хоть человек и непутёвый.
— Сбрось газ! – кричу во всё горло, да разве за этим грохотом услышишь?
Запнулся, упал. Эх, пропадай мука! Верёвка ослабла и самолёт вместе с Саней, как кузнечик, прыг вверх и оторвался от земли. И летит! Кореша аж завыли от восторга, а у меня волосья дыбом – впереди же высоковольтная линия, а рулить Саня ещё не научился. Не все таблички прочитал. Что же будет, это верная смерть!
Теперь послушайте, что потом сам Саня рассказал:
— Вдруг самолёт перестал скакать, как машина на колдобинах, и плавно стал набирать высоту. Красота! Лечу, как птица, над землёй. Это только подумать: я первый в мире тракторист, который поднялся в небо. Гордость так и прёт наружу, удержу нет, что-то ору. Потом думаю, а как же приземляться? Решил: или бензин кончится, или прочитаю табличку и сяду. И сел бы, только вижу впереди… мама родная! Опоры высоковольтной линии и провисают пролёты проводов, а там десять тысяч вольт! Эти сволочи электрики, где попало всё опутали проводами, как паутиной, а что мне делать? Выше подняться не умею, снизиться и юркнуть под провода не могу, я же не Валерий Чкалов.
Всё. Крышка тебе, Саня. Погиб молодой авиатор. И вот что интересно, люди перед смертью вспоминают святые моменты жизни, а мне в башку лезет эта Томка Сорокина. Ох, и девка! Какая у неё фигурка, какие формы! Молодая, свежая, ну всё при ней! По видику нагляделась секса и так ловко всё у неё получается… что вытворяет… Ой, Господи! Да о чём же я думаю? Тут смерть лютая, а перед глазами она, зараза, раздевается…
Сам от страха бросил все эти педальки, сбросил газ и… Не-ет, это хорошо, что я был пьяный, а то бы умер ещё в воздухе. Уж слишком всё быстро получилось. Помню только, что всё завертелось, то небо, то земля – и я уже лечу без самолёта. Вниз. Наверно, я как-то даже мёртвую петлю сделал и вывалился. Был-то без ремней, и тут добрым словом помянул гаишников: правильно они нас штрафуют.
На моё счастье, летел невысоко и, как Мересьев, угодил в берёзовый околок. Дуракам всегда везёт. Затрещали ветки, затрещала кожаная куртка и вдруг остановка. Повис, как летучая мышь, вниз башкой, и сперва перед глазами были цветные круги и сполохи, как говорил Петросян, «непередаваемые очучения». Ещё был хороший обзор, далеко всё видать. Вот они бегут, братья-фермеры, вот он самолёт, как на ладони. Винт отлетел вправо, колёсья влево, а сам хвост задрал и землю нюхает. В общем, самолёту досталось, а у меня хоть бы царапина, только кожаная куртка в клочья.
Повезли домой. Надька в крик, а я про полёт молчу. Стирает она мне штаны и кроет на чём свет стоит:
— Скотина! Нажрался до того, что обделался! Пусть тебя потаскуха Томка и обстирывает! Кобель белоглазый! Жеребец косяшный! Урод! Чтоб ты ей захлебнулся! Чтоб твои глаза повылезли! Чтоб у тебя на лбу хрен вырос! – И так далее. Хорошо ругалась. Там и другие слова были, покрепче.
Знала бы ты, думаю, что со мной приключилось. Не-ет, всё-таки хорошо, что я был пьяный. Это когда я делал мёртвую петлю, нервы не выдержали и малость в штаны капнул.
Теперь послушайте меня, чем всё это закончилось. Сняли мы Саню с берёзы, а он шатается и падает. Накувыркался и с непривычки равновесие не держит, вестибулярный аппарат отказал. И что интересно, накатили ему стакан, он его осадил и враз оклемался, стоит, как гвоздь. Мы его на всякий случай завалили в машину и домой.
Жалко самолёт, а что делать? В запасе у меня ещё один и планер. Ничего, проживём. Правда, Федя-змей с корешами ещё раз приходил. Уговаривал ещё раз испытать второй самолёт, опять говорил, что капитал должен работать и Маркса приплетал. Убеждал, что теперь Саня насобачился летать, только его надо запускать в другую сторону от высоковольтной линии. Ясно, чужое не жалко. Прогнал я всю эту бражку.
Поехал в город, искать настоящего лётчика. Одно время там было лётное училище, но его закрыли и этих летунов, как собак не резаных. И все без работы. Свели меня ребята с одним. А все летуны – это особая порода людей, с гонором. Мой сразу сообразил, что к чему, и за горло:
— Давай, – говорит, – мешок сахара и мешок муки, тогда поеду смотреть твою авиацию. И не возникай. Наш брат, авиатор, на вес золота, – а я вижу, он курит поганые сигареты «Астра».
Привожу в деревню, веду в склад, а он сразу характер казать.
— Нет. Дело потом. Сперва гони муку с сахаром.
Ну что ты будешь делать? Ладно, загрузили. Как увидел он это чудо техники, так и ухватился за голову.
— Это что? Самолёт? Не-ет, ребята, это не самолёт, это пряха. Я летал на ТУ, МИГах и на СУ-27, это всё сверхзвуковые, а тут древний старичок.
— Ну и что? – говорю. – Твои МИГи и СУ-27 для удобрений и ядохимикатов хрен приспособишь, а этот дедушка ещё послужит. Испробуй его в полёте и растолкуй, что к чему.
Он в отказ, а я Сане кричу: «Выгружай назад мешки». Согласился. Для голодного города это много значит. Спрашивает:
— Когда он последний раз проходил техосмотр?
— Два месяца назад, – вру и глазом не моргну, а что делать, ведь уедет.
В общем, он минут десять сидел в кабине, таблички изучал, потом запустил двигатель, прогрел его и полетел. Красиво так летит. Один круг, второй, потом вдруг разом зачихал и пошёл книзу. Опять! Да что же я такой невезучий! И этот только– ба-бах! Пыль клубами. Саня заржал и толкает меня в бок.
— А ещё летун. Так-то и я умею. Не лётчик, а фраер набушлаченый.
Толпой бежим к самолёту. У того шасси погнулись и, как у калмыка, ноги на раскоряку, но в целом самолёт не пострадал. Летун сидит бледный, как полотно, и матерится:
— В гробу я видел эту авиацию! Как только я уцелел? Если б знал заранее, то к муке с сахаром выторговал бы и мешок лука!
Это он погорячился насчёт того, что всё в порядке. Смотрим, а у него штаны на ж… (заднице) лопнули по шву. Ну что за техника! Всегда после неё со штанами что то случается. Как только летун при ходьбе почувствовал сквозняк, так и заголосил:
— Давай, – кричит, – сверх договора ещё пять сотен на джинсы! Я эти покупал в Техасе, когда летал на «международке!»
Внаглую врёт. Во-первых, он военный лётчик, а во-вторых, его штаны сшиты в подвалах Китая и цена им сотня, от силы две. Так нет, мужик с гонором, а тут всего-то и делов – ведь по шву лопнули, возьми, да и зашей.
— Да погоди ты со своими штанами, толком объясни.
— Говорил же тебе, что это пряха. Руль высоты заклинило, чуть посильней дёрнул, а трос-тяга и лопнул. Ещё что-то с мотором, обороты совсем не набирает. Вы каким топливом его заправляли?
— Авиационным. По паспорту, – а до самого только тут и дошло, с топливом мы перемудрили. Заправляли как всегда тем, что дают. А бензин нам возят в цистернах из-под солярки и, конечно, их не промывают.
— Хорошо, что удалось спланировать и всё обошлось. Слушай, Мичурин, плюнь ты на эту затею, живи спокойно. Ну, за каким хреном тебе это авиа? Скоро опять появятся конторы с сельхозавиацией, они тебя и обслужат.
Давай я считать, сколько потерял с этой авиацией: десять тонн муки, Сане куртку кожаную пришлось подарить и ещё этому летуну довеском пошли джинсы. Ну, куда бедному крестьянину податься с этой малой авиацией?
Нечистая сила
(Святочный рассказ)
— Помилуй, Вакула! – жалобно простонал чёрт.
Отпусти только душу на покаяние: не клади на меня страшного креста.
Н.В. Гоголь
У Варвары Михайловны что-то не заладилось с пенсией. Эти черти из собеса обозначили ей сиротское содержание по нормам блокадного Ленинграда. Но посулили, что увеличат на коэффициент, согласно какого-то индекса, пока надо ждать. Если проще – нет денег и до хорошей жизни, как хромому до Египта.
Во всей этой хитрой политэкономии Варвара Михайловна разбиралась плохо, а потому пошла прямиком в правление колхоза и стала жалиться:
— В войну работала, целину подымала, коров доила и порешила руки, – и показывает свои натруженные руки со скрюченными пальцами, – а как на старости жить? Ещё на этих руках – дочь без мужа и без работы, зато с двумя детьми. Помогите.
Ей и присоветовали пойти в сторожа. Стала она охранять гараж и мастерские колхоза.
Что сторожа сами воруют, это не секрет. Даже было негласное положение: – тех, кто плохо живёт, ставить сторожами, чтоб подкормились. Говорили даже, что социализм сгубили сторожа.
Главная задача сторожа в том, чтобы покрепче закрючиться и дожить до утра. А что там творится в гараже или в мастерских, это уже другое дело. Что можно уже давно украдено и пропито.
Варвара Михайловна всю жизнь проработала в колхозе, потому была не без греха (на трудодни и зарплату не прожить), более того, она даже состояла в партии (это плюс), но тайком гнала самогонку (это минус). Зачем была в партии она и сама толком не знает. Но это не мешало ей держать дома икону и молиться, а самогонку гнала не для роскоши, чтобы как-то сводить концы с концами. Продавала только тому, кого знала, если у людей нужда, и ни за что не продаст человеку с ветра или пустяшному пропойце, ни-ни! Всё же член партии, сознательная.
Но как ни оберегалась, а раз пролетела, даром отдала аж трёхлитровую банку. Было это, правда, уже при демократах и коммунисты тут ни при чём. Но всё равно жалко и обидно.
Зимой дело было, в аккурат в ночь перед Рождеством, чёрт её и попутал. На улице студёно, а у неё в избушке тепло. Сидит она себе на лавочке, носки вяжет внучатам. Потом похолодало, надела шубу, потом и в шубе озябла, тогда она села на плиту и греется. Через время чует, совсем остыла плита, а к утру так можно совсем окочуриться, а мёрзнуть-то не с руки. Хошь не хошь, а пришлось идти за углём к кочегарке.
Пошла. Сторожка у неё проходная, с двумя дверями, она уличную закрючила и подалась. А погода как по заказу, ясная, месяц светит, деревня как на ладони, Рождество начинается, и должна всякая чертовщина происходить и мерещиться. И, правда, стало мерещиться.
Слышит, на колхозном свинарнике завизжал под ножом подсвинок, не иначе, как черти уже орудуют. У мельницы какая-то машина грузится мукой, а у зерносклада то ли черти, то ли мужики таскают мешки с зерном, только звон стоит.
«Свят-свят!» перекрестилась Варвара Михайловна, вздохнула и пошла по своим делам. Там свои сторожа, пусть сами и разбираются с нечистой силой. У столярки собрала сухой срезки на растопку, у котельной навыбирала ведёрко уголька камешками. А народ возле котельной мельтешит и все с саночками, выбирают уголёк покрупней – и кто в мешки, кто в корыто и везут по домам. Топиться-то надо. Но тут у Варвары Михайловны всё строго, она же при исполнении, и через проходную ни-ни! Это уже воровство и разбазаривание колхозного добра, а по тропочкам через дырья в заборе – это уже вина правления.
Это ей растолковал участковый Коля Зотов, он окончил школу милиции и дал ей урок популярной юриспруденции: как не нажить головной боли. Вдолбил главную задачу сторожа, чтоб в её дежурство через проходную не выносили колхозное добро и не угнали трактор или машину. Её дело, чтоб все замки были на месте и к утру гараж с мастерской были в целости.
Идёт она назад. На небе, как кто пригоршню угольков сыпанул, звёзды яркие, Рождество уже началось и на душе светло. Парни и девки идут с дискотеки, девки поголовно в штанах и курят. Ох и лахудры! Кольку Лукина ведут под руки, то ли пьяный, то ли обкурился «травки». Все орут, гомонят и матерятся. Это их черти тешат.
У Самохиных опять баня горит. Одно из двух: или замылись до угару, или самогонку гнали да переусердствовали. Это не впервой, потушат.
Около Звягинцевых шум и гам. Опять одно из двух: или пьяный Егор дубасит Аньку и все смотрят, или Анька метелит трезвого Егора, тогда народ волнуется и начинает заступаться за него. Анька баба здоровая, может и до смерти уходить мужика.
Играет гармошка. Это у Бурлаковых тоже крайность: или старшенький Колька из тюрьмы вернулся, или младшенького, Витьку должны посадить, вот и гуляют.
Беспризорные, бывшие пионеры и комсомольцы, колядуют. Никаких колядок они, конечно, не знают, ходят, как рэкетиры или душегубы, сами здоровенные бугаи. Вваливаются в дом разбойничей ватагой и предупреждают перепуганных хозяев:
— Вам сорить в избе? Давайте лучше по-хорошему, а то такой шум устроим, что ни посуды, ни мебели целой не останется. И всё будет по закону – не нарушайте святых традиций и обычаев. Ну, так как, будем расходиться?
Конфеты и разные постряпушки они не берут, тут тоже рыночные отношения: требуют деньги или самогонку.
Ну, ничего святого, рассуждает Варвара Михайловна, то ли дело было раньше, при коммунистах, так же хорошо колядовали, а сейчас? Тьфу!
Приходит в сторожку. Мыслями ещё петляет при коммунистах и без внимания. Золу выгребла, дров наложила и вот ей уже огонь запалить… Мама родная! Царица небесная! Плиту вместе с кружками украли! Она – туда-сюда, думает, не иначе как черти орудуют. Выскочила на улицу, там под фонарём светло и серебристый слой свежего инея на дороге. Она и давай, как сыщик, на нём разглядывать следы, уж очень интересно, кто это? Аж пот её прошиб со страху, думает: если это копытья, тогда значит черти спёрли. Пригляделась, – нет, следы от ботинок, в ёлочку, и у левого чётко видать трещинку на подошве, значит, нечистая сила ни при чём, свои местные черти виноваты.
Стыдоба-то какая! У сторожа, что охраняет по сути только свою сторожку и украли плиту! Это же как у часового выкрасть ружьё! Позор! А ведь только днём участковый Коля Зотов говорил ей, что она передовик и ей хотят присвоить звание «Ударник перестройки», а это к пенсии выпадет прибавка. И вдруг такой конфуз! Что делать? Как быть?
Тут телефон зазвонил, Коля Зотов всё беспокоится:
— Варвара Михайловна, только, ради Бога, не подведи. Тут из района нагрянул милицейский рейд на двух машинах, сейчас будут объекты проверять. Ты уж меня не осрами, не усни, проявляй бдительность, – и бросил трубку.
Хороший человек Коля, одно только плохо, слово сказать не даёт. Тыр-пыр, как порох. Горячий. Мало погодя опять звонит.
— Михайловна, не подведи, к тебе обязательно заедут, поскольку бумаги на «Ударника» идут через них. У тебя всё в порядке? А то в конторе холодно, кочегары, сволочи, уже пьяные и не топят, празднуют Рождество. Пусть хоть у тебя отогреются.
И тут Варвара Михайловна повинилась:
— Колюня! Ты уж не серчай, тово… можа ты их направишь к другим сторожам?
— Что случилось? – переполошился участковый Коля.
— Да у меня плиту вместе с кружками упёрли. На минутку за углём отлучилась… что делать-то?
Коля Зотов долго молчал, видно, соображал, как тут быть.
— Как же тебя угораздило, Михайловна? На одну тебя и была надёжа! Но ничего. Надо тебя как-то выручать, придётся сюда подключить милицию из рейда, только это большие затраты. Но и ты там соображай, крутись, дело-то щепетильное. И побыстре, и чтоб закуска была путёвая с салом и грибами.
— Что? – то ли не поняла Варвара Михайловна, то ли решила слукавить.
— «Что, что», – передразнил Коля, – три литра самогона давай и чтоб мухой. Живо! Я сейчас подъеду. Ух, как я разозлился! Ну, держитесь ворюги!
— Колюня, а без самогона нельзя? – стала она торговаться.
— А как ты хотела? – даже осерчал участковый. – Сторож называется. Из под ж… (задницы) плиту выдернули, а её ещё и в «Ударники». Ты сама-то подумай: на улице холодно, а их всех греть надо, это же милиция, рейд! Знаешь сколько надо, чтоб их разогреть? Зато плиту найдём. Уловила?
Сговорились. Делать нечего. Она смоталась домой, всё сделала, как и велел участковый. Возвращается на объект, а Коля уже плиту ставит на место. Ох и горячий парень! Оказывается, он всех на ноги поднял и нашли кражу. Спаслась Варвара Михайловна от позора.
— Эти воры ещё у меня попляшут, – не как не остынет от схватки Коля, – представляешь, с ружьём на меня кинулись! Теперь они все у меня в кулаке!
Отчаянный парень. Забрал банку с самогонкой и сумку с закуской. Уехал.
Затопила она печь и успокоилась. После полуночи и, правда, нагрянул милицейский УАЗик с рейдом. Вылезает этот рейд, три мордастых милиционера, а на ножках уже стоят нетвёрдо. Мотает их. Поблукали маленько по территории, спросили её фамилию и уехали. Хорошие ребята, даже не орали. И ещё она заметила, что у одного из них спина была в муке. Но она сразу отогнала мысль, что это они были с теми чертями, которые с мельницы муку воровали. В такую ночь много что может померещиться. Да и не её это дело, следить за милицией.
Вот и пришло Рождество. Сидит в тепле Варвара Михайловна, опять вяжет внучатам носки. Хорошо, покойно, а сама, нет-нет, да и поглядит на плиту, покачает головой. Она уже точно знает, что это участковый Коля Зотов и стащил плиту, чтобы с неё сорвать три литра самогонки. Сразу догадалась, по следам. У жулика и Коли на двоих одни и те же ботинки и те же следы в ёлочку, причём, у левого треснула подошва. Не поленилась и нашла даже место, где он прятал эту плиту, недалеко от сторожки, у забора.
Но на Колю она не сердилась, его тоже понять можно. Эти частые рейды из милиции, вроде набегов Мамая. Мало того, что под видом работы – это сбор с колхоза дани (мясо, мука, зерно), так их же чертей ещё надо и поить, а у Коли зарплата не ахти и жена, Людка, страсть как жадная. Вот тут и думай, участковый, тем более праздник. Рождество.
Ну и орёл! Главное, как всё ловко продумал и раскрутил её. Оно и понятно: не зря же в школе милиции учится, ну прямо как этот… как его… Шерлок Холмс! Живёт где-то в Англии и за её плиту и фунта стерлинга не взял бы, не то что три литра самогонки. Как же её жалко Варваре Михайловне, это для неё почти половина месячной пенсии!
Потом подумает и засомневается: а может, и взял бы. Всё же Рождество, оно и в Англии Рождество. Если ещё к нему вдруг из Скотленд-Ярда из милиции наряд с рейдом. И опять же, ну за каким чёртом им эти рейды, если колхозов в Англии нет. Тогда ещё непонятней, чем же там милиция живёт, если воровать негде?
Что-то я сегодня размечталась о высоком, подумала Варвара Михайловна, на сегодня хватит. И стала моститься спать.
Выговор
(Рассказ делегата)
Крепко Ванька печку сложил,
Ажно дым с трубы нейдёт.
В. Ардов
Одно время все партконференции заканчивались пением «Интернационала». Обходились, кто как мог. Обычно раздавали листки с текстом и пели. Ещё подпевали артисты из самодеятельности, потом уже появились пластинки с «Интернационалом». Если сказать честно, то «вживую» пели не очень. А вот у нас всё было по-другому, выручал главный агроном сельхозуправления Павел Егорыч Морозов. Голос у него был приятный, сильный, как у заправского певца. Его даже несколько раз по телевизору показывали. Вот он-то по сигналу всегда первым подымался и запевал:
— Вставай проклятьем заклеймённый…
Зал, гремя стульями, сразу дружно вставал и подхватывал:
— Весь мир голодных и рабов…
Песня крепла, пели от души и с удовольствием, так как после песни всех распускали по домам, а начальство, крадучись, ехало куда-нибудь обмывать партийное мероприятие.
И вот как-то приехал к нам на партконференцию секретарь крайкома, ведающий вопросами сельского хозяйства. По такому случаю Павла Егорыча настропалили:
— Ты уж не подведи, сам понимаешь…
— Как можно? Да вы не переживайте, – успокаивал он райкомовцев, ошалевших от беготни и сознания важности события.
Ладно. Дело уже к вечеру, а скукотища – страсть! По барабанным перепонкам дятлом долбят эти проценты, гектары, тонны и заверения в честь очередного съезда и, конечно, исторического…
Ясно, что в буфете спиртное не продавали, но после обеда все мужики были уже навеселе. Вроде, тогда Андропов гайки так завернул, что и не пикнуть, только кто же русского человека, да ещё и партийного, может перехитрить? По старой традиции налили полный бригадный самовар самогонки и по одному, по двое ныряли в кабинет директора Дома культуры. Так сказать, удовлетворяли естественную потребность.
Павел Егорыч тоже несколько раз сбегал к директору, хорошо подрумянился и центр тяжести у него стал маленько смещаться. Время до конца конференции ещё много, и он решил отдохнуть. Попросил, чтобы его вовремя разбудили, а сам под эти проценты и тонны малость на стульчике прикорнул.
Всё было бы хорошо, но вдруг он начал подхрапывать, его кто-то легонько по плечу похлопал и шепчет: «Егорыч, приведи себя в порядок!» Тот спросонья подхватился, откашлялся и хоть бы спросил: что происходит? Видит, трибуна пустая, президиум на него уставился, думает, коммунист, желает что-то сообщить. И тут он ни к селу, ни к городу и грянул басом:
— Вставай проклятьем заклеймённый…
Первыми встали те, кто спал или дремал да, не разобрав, что к чему, спросонья как подхватили, как заголосили:
— Весь мир голодных и рабов…
Тут за ними поднялся весь зал, подхватили по привычке, а сами думают: может оно так и положено в честь секретаря. Что было, что было! Главное, что песню уже не остановить, это же вам не «Шумел камыш», а партийный гимн. Президиум не знает, что делать, и глядит на секретаря, а тому как отрываться от масс? Поднялся и тоже заблажил:
— Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем…
Короче, «Интернационал» пели дважды, второй раз в конце конференции.
Потом на заседании бюро райкома долго ломали голову, как объявить выговор Павлу Егорычу, но чтобы не обидеть партийный гимн и чтобы тому мало не показалось.
Больше его делегатом на партконференцию не избирали. По телевизору тоже не показывали.
Mолочные братья
(Хождение во власть)
Мы живём точно в сне неразгаданном,
На одной из удобных планет…
Много есть, чего вовсе не надо нам,
А того, что нам хочется, нет…
И. Северянин.
1
Выбирали краевого губернатора. Кандидатов было трое. Группа поддержки одного из кандидатов прибыла в наш район. Были в ней люди все заметные: артист драмтеатра, писатель, знаменитый композитор и поэт. Доверенным лицом кандидата был Пётр Сергеевич Соломин, начальник одного из краевых управлений. Было ему уже за полсотни, сам солидный, виски подёрнуты благородной сединой. Характером был весёлый и смешливый.
Их принимали хорошо, оно и понятно, люди известные, дарили цветы и брали автографы. Свою агитацию, если это только можно было назвать агитацией, они вели несколько своеобразно. Просто давали мини-концерты: пели, читали стихи, рассказывали о простых вещах простым понятным языком, а уж в конце ненавязчиво советовали всем идти голосовать. Голосовать за любого кандидата, но: «Мы бы предпочли… на наш взгляд, наиболее подходящая кандидатура… вам решать». И всё. Не хвалили его и других кандидатов не поливали грязью.
Вечером они заявились в нашу гостиницу усталые, но довольные. Были немножко возбуждены и навеселе. Их сопровождали местные активисты, которые несли с собой пакеты, свёртки, в них что-то булькало и вкусно пахло.
Сперва были тосты, потом по русскому обычаю стали ругать всех подряд, разумеется, начальство. Особо прошлись по первым секретарям крайкома. По косточкам разобрали, припомнили все обиды, ругали – кого за мягкотелость, кого за невежество, а кого и за самодурство. Не обошли и ныне покойного Сорокина Михаила Фёдоровича. И жестокий был, и голодом морил край, и чтобы получить звезду Героя, угождал Москве, давал выгребать из края мясо и масло, а народ кормил одним хеком…
Пётр Сергеевич больше слушал и посмеивался, но вдруг и у него голос прорезался:
— Друзья мои, – говорит, – я не берусь кого-либо из вас учить, но ради объективности скажу, что вы смотрите только одну сторону медали и судите о них однобоко. Они такие же люди, со своими достоинствами и недостатками, и уж поверьте мне, я это точно знаю, с большинством непопулярных решений сами были не согласны. Тут, как говорится, судьба играет человеком. Время было такое, условия поведения диктовала система.
Все оторопели. Так хорошо сидели, хорошо и дружно ругали и вдруг он всё испортил. Загалдели, заспорили, потом все скопом на него и навалились.
— Пётр Сергеич, вам-то зачем за них заступаться? Откуда знаете про эту вторую сторону медали? Все, кто работал в крайкоме, сволочи и негодяи! Под суд их – всех до одного!
— Про всех не знаю, – спокойно говорит Пётр Сергеевич, – а вот про Сорокина Михаила Фёдоровича хорошо знаю, потому как одно время работал вместе с ним. Да, да. Не удивляйтесь, я сам из «бывших» негодяев и сволочей и работал в крайкоме, – а сам опять посмеивается.
Наступила неловкая пауза.
— Да вы шутите? Уж ваши-то взгляды мы знаем хорошо. И потом, каким ветром вас туда занесло?
— Как? А вот послушайте.
2
Сам я из деревни, вся родня безграмотная, и в кого только я уродился? Хорошо цифру понимал. Числа для меня были, как музыка. Ребятишки во дворе играют, а я всё складываю, умножаю, какие-то формулы стал придумывать. Маманя видит такое дело, думает, что я порченый, по доброте своей к бабкам водила и они что-то шептали, снимали сглаз. Обошлось. Школу закончил с золотой медалью, университет – с красным дипломом.
Меня сразу направили работать в краевое плановое управление. Работаю. Вникаю. А как вник, так чуть не завыл. Штат огромный, вычислительная техника допотопная, про компьютеры и электронику и слышать не хотят. Настоящей работы не дают, одним словом, рутина и болото.
Мне на свежий взгляд это дико. Попробовал подсуетиться, предложил новые разработки, организовать вычислительный центр – куда там! На меня стали коситься. Потом растолковали:
— Ты-то что суетишься? За дело болеешь или карьеру делаешь? Запомни, зря стараешься, не с той стороны заходишь.
Я доказываю, что всё в наших руках, время такое и давно наступила электронная революция, чего мы ждём?
Тогда мне популярно всё и растолковали, а как растолковали, я так и сел. Оказывается, всё решается в крайкоме. А там сидят люди осторожные. Для них важен не здравый смысл, а линия Политбюро с почётными старцами и решения очередного и, конечно, «исторического» съезда партии.
У меня чуть крыша не поехала, когда узнал, что мой шеф, ведущий перспективное планирование, по профессии историк, а начальник всего управления бывший директор автобазы. Но они, бывшие инструкторы крайкома партии, прошли крепкую идейно-политическую закалку. Вот так.
Прошло четыре года. Освоился. Как только какая серьёзная работа, так дают мне. Была перспектива получить место заместителя начальника отдела, да не тут-то было, кресло занял Гоша Костров. Пояснили, что пусть у него нет красного диплома и не всю таблицу умножения знает, зато он член партии.
Бился я, бился, активничал – ноль. А я как раз женился, уже сын родился, деньги – во как нужны, а всё те же сто двадцать «рэ». Не пойму, в чём дело. Тут мне опять растолковали, партия у нас «направляющая и руководящая сила!» Вот и весь секрет. Чтоб себя реализовать как личность, иди в партию.
Я поперву возмущался, потом плюнул на совесть. Чёрт с ней, с совестью и партией, как-то надо выруливать из нужды, жрать-то хочется. Накатал заявление и в партком, мол, уже созрел для партии. Согласен. Принимайте.
Ага. Так и приняли. Оказывается, в партию штиблетников принимали строго по разнарядке и было процентное соотношение между теми, кто работает руками и языком. И вот выровнялся этот процент и дали нам одно место в эту «направляющую и руководящую силу», короче, в партию. Изучил я Устав, пошнырял по газетам, проголосовали за меня на партийном собрании и повели на утверждение в бюро райкома.
Как сейчас помню просторный кабинет первого секретаря. Наш секретарь парткома Николай Иванович идёт впереди – я следом за ним. Вижу длинный стол, за ним сидит больше десятка райкомовцев и среди них два седых старичка, ветераны-партийцы. В орденах, медалях, строгие – ужас, всё хмурятся и глядят исподлобья. Николай Иванович шепчет мне на ухо: «Они самого Ленина видели и даже говорили с ним».
Сперва всё шло хорошо. Зачитали мою анкету, вопросы задают по Уставу и политике. Тут я махом отбился и даже лихо ввернул Демьяна Бедного:
— Кто коммунист, тот истинный работник,
Кто не работник, тот не коммунист!
Вдруг один старичок-ветеран встрепенулся от этого Демьяна и так это ехидно спрашивает:
— У вас красный диплом экономиста, так? И вы работаете в краевом управлении, так? А если так, то поясните нам, как вы планируете производство товаров? В крае периодами не хватает или излишек сахара, спичек и мебели, хотя живём в лесу и имеем мебельные и спичечные фабрики. Это что за планирование? Это за что же мы кровь проливали?
А надо вам сказать, что наш парторг Николай Иванович был нервный и не любил дилетантов-пустобрёхов. Я ещё и рта не успел открыть, а он как окрысится на этого дедка:
— Вопрос не по адресу. Вот мы-то как раз всё правильно планируем и знаем, сколько надо сахара, спичек и мебели. Лучше вам это спросить у того, кто производству план утверждает, – и косится на секретаря райкома, тычет пальцем в потолок, мол, это решают те, кто на верху.
Дед стал заводиться, вскочил, забрызгал слюной:
— Во-первых, я не вас спрашиваю, а во-вторых…
— А! Много вы разбираетесь в планировании, – перебивает наш парторг.
— Я не понимаю? – прямо завизжал дедуля. – Да я лично с Лениным, на съезде партии, говорил!
— О чём? – уже орёт и Николай Иванович. – О политике? А тут экономика!
Да как сцепились. Уже все на нас кричат, орут и ногами топают. В общем приняли меня. Прошёл кандидатский стаж, я уже член партии, а должности всё нет. Ждал, ждал и разочаровался. Помог, как всегда, его величество, случай.
Лето было засушливое, обское водохранилище не набрало положенного уровня, а зима пришла лютая. На колхозных фермах и в мастерских везде электрокотлы, тут и пошли перебои с электроэнергией. Не хватает воды, вот новосибирская ГЭС и ввела жёсткую подачу. Кое-кое как перезимовали и вдруг кому-то в голову пришло: а не построить ли нам свою ГЭС на Бии или Катуни? И завертелось! На телевидении «круглые столы», по радио и в газетах споры и дебаты «за» и «против».
Но разумных людей было больше и стало общественное мнение клониться к тому, что не надо строить. Да как бы не так. У власти своя линия – строить! Оно и понятно, разом снимаются все проблемы. Чтобы успокоить общественность, заручились поддержкой учёных из Академгородка. А тем что? Работа для них платная, вот и потрафили заказчику, надо, значит, обоснуем. Покумекали немножко и выдают прогноз-обоснование: «Строить можно. Экология не пострадает».
Наши обрадовались, крикунов успокоили этим заключением и сейчас же запрягли геологов, гидрологов, проектировщиков. Те пошарились по Горному Алтаю и вот он приговор – строить на Катуни возле Чемала! Тут и нашему управлению и проектному институту дают задание на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО). Подключили Гидропроект.
Наше начальство собрало инициативную группу из специалистов управления, наобещало им премию, только пусть поскорее подсчитают, что надо, главное – знать экономический эффект. Я сразу отказался от участия в этой работе, чтобы не гробить такой чудный уголок природы. Не я, учёные утверждают, что это уникальное место на земном шаре, что-то связано с космосом. Можно им верить или нет, но среди суровой Сибири – это сказочный оазис с микроклиматом. Там растут яблоки, вызревает виноград, климат мягкий, но главное – озон. Не случайно здесь с испокон веков лечились люди, а лечила сама природа.
Стоит привести примечательный факт, что когда Сталин сослал жену Калинина в Сибирь, то она выбрала именно Чемал. По её инициативе на горной речушке была построена гидростанция, причём, с небольшим накоплением воды. Развели сады и построили туберкулёзный санаторий.
Теперь же огромная плотина, с гигантским водохранилищем по руслу Катуни обязательно погубит этот райский уголок. Жалко и горько от сиюминутной выгоды и ожидаемых последствиях. Как-то зашёл я в университет, там у меня был хороший приятель, Володя Ковалёв. Учёная голова, доцент с кафедры прогнозирования и использования ресурсов. Разговорились.
— Ты не возмущайся, – говорит, – лучше сделай свои расчёты, спрогнозируй ситуацию и выступи с частным определением. Я тебе подберу справочники, нужную литературу. В мировой практике давно отказались от плотин, это вчерашний день, запрограммированная экологическая катастрофа.
Мы понастроили гниющих болот-отстойников и ещё в Египте отгрохали Асуанскую ГЭС, так что фараоны в своих гробницах перевернулись. Главное, что есть уже альтернативные проекты: вся Европа на реках ставит гидростанции, но только без плотин, без ущерба экологии. Там турбины монтируются по руслу быстрых реки ставь их сколько душе угодно. И заметь, этот проект разработали наши российские учёные.
— Зря всё это. Думаю, разум победит и строить не будут.
— Ой ли? – сомневается учёная голова. – На людей действуют авторитет и цифры. Ретивые академики и ваши экономисты всех задавят. Кто выступает против? И главное – с чем? Дилетанты и лирики, а что у них в багаже? Начнут городить про соловьёв и красоту, долг перед грядущими поколениями, словом, одни эмоции. Это же детский лепет. Их одним ударом разнесут, а этих академиков надо по башке, по башке, причём, их же оружием. Только факты, только цифры. Берись. Не бойся.
— Допустим, ты меня убедил. Только, что толку, я же не Илья Муромец. Ну, ввяжусь я в драку, но один в поле не воин. Без признанного авторитета и учёных степеней меня никто всерьез и воспринимать не будет. Сунусь на телевидение или в газету, а там меня и слушать не станут. Ты что, только родился?
— Вот это как раз и не проблема. Выступай от группы независимых экспертов. Я подпишусь и ещё ребят с учёными степенями подберу. Даже в самом Академгородке есть знакомые ребята, которые против строительства.
И что вы думаете? Убедил. Засел я по-настоящему за эту тему. Перелопатил гору литературы, проштудировал зарубежный и наш опыт гидростроения, а как вырисовалась вся картина, то сам ужаснулся. Господи, что же мы делаем? Мы же себе, по недомыслию могилу роем!
По заключению Министерства здравоохранения, сибирские города, где уже построены ГЭС, стали заложниками, особенно Красноярск. Там ниже плотин после сброса вода на триста километров не замерзает, даже в сорокоградусные морозы. И вот, эта гигантская полынья всю зиму парит. Неестественная влажность в морозы хватает город за горло и душит.
Не лучше обстоят дела и в Новосибирске с Братском. И вот ещё что, когда проанализировал материалы, что подготовили экономисты-энтузиасты нашего управления, то нашёл прямую подтасовку. Вот такая объективность.
Наконец, свёл материалы в единое, дал объективный анализ всему «за» и «против», приложил все первоисточники и выдал заключение. И выходило у меня, что строить Катунскую ГЭС – это преступление. Один экземпляр отправил академикам, второй – властям, а с подлинником заявился в редакцию краевой газеты. Понятно, что от имени «независимых экспертов». Понятно и то, что разговор был не лёгкий, люди в газете зависимые, знают, чей хлеб с ладони едят, страхуются. Позвонили в университет доценту Ковалёву и даже в Академгородок, беседовали с учёными, которые поставили свои подписи под заключением.
В общем, напечатали статью под заголовком «Ещё раз о Катунской ГЭС». Что было! Эффект разорвавшейся бомбы. Общественность встала на дыбы: «Как так? Нам морочат голову? Не позволим! К ответу очковтирателей!»
Не знаю, что уж тут повлияло, вечная напряжёнка с финансами или моя статья, но стройку тормознули и страсти улеглись.
Итак, я герой, а что толку? На работу хоть не ходи. Раньше одно начальство косоротилось, как на выскочку-придурка, теперь всё управление окрысилось. Премия нашему управлению накрылась медным тазом, их ТЭО оказалось липой. Это плевок родному коллективу в харю, а такое не прощается, надо или самому уходить, или выгонят.
И вот однажды требует начальство, а чтобы не пачкать свой язык о моё противное имя, говорит аллегорией:
— У тебя, Лобачевский, партбилет с собой?
— С собой.
— Тогда шагай в крайком партии, там тебя дожидаются. Мозги будут вправлять, говорят, ты с красным дипломом переучился.
Прихожу. Вообще-то в этих стенах стало не по себе, потом думаю – а чего мне бояться? Я что, враг какой-то? Это вам не тридцать седьмой год. В уме промчался по Уставу: «Член КПСС имеет право… сверху до низу… с низу до верху…» Даже кулаки сжал и чувствую зуд, подраться бы. Умирать, так с музыкой!
Нашёл нужный кабинет с табличкой «Зав отделом Егоров Василий Игнатьевич». Вхожу. Сидит аккуратный мордастый дядя с рыбьими глазами. Приглашает ещё такого же и начинается беседа. Сперва, где родился, крестился, учился и кто родители, семейное положение и так далее. Вдруг неожиданно спрашивают:
— Выходит, первый секретарь крайкома ваш земляк? Он тоже из Ельцовки. Неужели не знали? – И уставились на меня.
— Конечно, знаю.
— Вы лично с ним знакомы? Встречались?
— Он же старше меня, сперва он учился, потом – я. А сейчас, когда приезжает в Ельцовку, ему не до нас, у него свои дела.
Они опять, как-то странно переглянулись. Потом опять разговор на общие темы, а в конце вдруг как обухом по темечку:
— Что вы скажете, если мы возьмём вас на работу в крайком?
— Меня? – Я вытаращил глаза. – Честно сказать, даже не готов, что ответить. Надо подумать.
— Вот вы и подумайте. Только недолго и ещё учтите, сюда берут не каждого. Тут работа ответственная и особая. – И опять странно переглянулись.
— Извините, но я что-то не пойму. Я же, вроде, как выступал против линии крайкома, так сказать, был в оппозиции.
— Вот и хорошо, нам такие работники и нужны – возмутители спокойствия. И, конечно, немаловажно, чтобы он был ещё и стоящим работником. Подумайте хорошо.
Ладно. Прихожу в управление, меня сразу волокут к начальнику. А надо вам сказать, что он был не только слабый на голову, но ещё и хамоватый мужик, всех подчинённых звал не иначе, как «эй, ты». А уж со мной-то, что церемониться?
— Что, Лобачевский, прочистили тебе мозги? Поумнел? И это ещё не всё, теперь мы тебя пропесочим на партсобрании.
И тут я принаглел, накипело за всё время работы. Думаю, если уж в крайкоме не придётся работать, то мне и тут места мало будет, поэтому как-то даже развязно достаю сигареты, закуриваю и как врежу ему:
— А я умным и был, не то, что ты, придурок с автобазы номер шесть. И мозги теперь буду вправлять я тебе. Вот так, дядя. Переводят меня в крайком, курировать буду твоё управление. Теперь ты попляшешь у меня, – а сам ему в харю дым пустил. Понесло меня, просто охамел.
Вижу, он побледнел, враз вспотел, руки затряслись, верит и не верит. Но что перетрусил, это точно. А что тут удивляться, тогда действовал принцип «Ты – начальник – я дурак, я начальник – ты дурак».
— Ты… вы… такими шутками… это же крайком…
— Не веришь? А ты возьми и позвони, там тебе всё растолкуют. До свиданья. И вот ещё что, пока меня оформляют, ты меня больше не дёргай к себе. Понадоблюсь, сам приходи.
И ушёл. Ну, думаю, теперь обрубил концы и отступать некуда. Конечно, это было мальчишество, погорячился я. Но, нет, пронесло. Потом-то я узнал: звонил он в крайком, наводил справки, но про нашу «беседу» промолчал. Трусоват был, страховался, ему до пенсии оставалось всего два года.
А у меня башка трещит: что делать? Идти или нет? Жена, так та сразу согласилась, и её понять можно, если каждый день ломать голову, что сварить, где достать и рубли мусолить, а вот тесть… Тесть мой, Гаврила Михеич, был мужик деревенский и злющий. В город притащился сразу после войны, работал на заводе и люто ненавидел начальство, особенно «куммунистов».
— Все они лодыри и брехуны. Разъели морды, ищут, где легче.
— Что же из колхоза сбежал в город? Тоже искал, где легче?
— Я и тут горбатю, а ты только шелестишь бумажками.
Мужик он был задиристый, со своей философией. Всех людей он делил на две категории: людей разговорной и трудовой деятельности. К первой он относил всех, кто трепал языком, ко второй, кто работал руками. Первых он делил ещё на два подвида: полезные тунеядцы (врачи, учителя) и зловредные паразиты (милиция, всё начальство, особенно партийное, артисты и прочая шелупонь). «Работать надо, а не ля-ля языком», – корил он меня.
Вот такой был у меня тесть. Как он отреагирует, может, прибьёт? Стал с ним советоваться, так, мол, и так, зовут работать в крайком. Вот всё думаю, как быть?
Тут мой Гаврила Михеич такое понёс, уши вянут:
— Петруха, а чё тут думать? Это же высшие эшелоны власти. Мы херово жизнь прожили, так хоть вам доведётся по-людски. Конечно, там все сволочи, но у них зарплата, богатые спецпайки, бесплатные путёвки, квартиру поменяете.
Я так и ахнул:
— Ты что, тесть, офонарел? То всё меня шпынял, издевался: «Куммунисты – воры, лодыри», а тут, что запел?
— Здесь же совсем другое дело. Раньше, как при запоре, ты по ошибке дулся не в ту сторону. Тогда ты был рабочей лошадью партии и своими взносами её кормил. Теперь тебя подпустили к коммунизму и большую ложку дают. Чего тут думать и варежку раскрывать?
Ну, не сволочь мой Гаврила Михеич?
Жена Клава тоже наладилась: «Иди, иди!»
Плюнул я на них, озлился и… пошёл. Оказалось, что я такая же сволочь, как и все.
3
Работа там оказалась несложная и, главное, ненужная. Все эти партийные структуры, начиная с ЦК до сельского райкома, полностью дублировали исполнительную советскую власть и её службы, только плюс отделы пропаганды и агитации. Моя работа сводилась к сбору данных и их анализу. Иногда требовалось выдать прогноз по какой-нибудь отрасли хозяйства края, подготовить справку по району, куда ехало начальство.
Особенно мне запомнился период, когда начали планировать строительство Коксохима. Тут опять столкнулись два мнения. Одни утверждали, что это экономическая целесообразность и аргументировали: огромная стройка союзного значения, тысячи рабочих мест, развитая инфраструктура, строительство целого города, растёт значимость края. Оппоненты возражали, и их козыри тоже были весомые. Край наш уникальный, сельскохозяйственный, здесь распахан каждый клочок земли. Как отразится работа такого химического гиганта на экологии?
Вот тут и пораскинь мозгами. Велик соблазн начать стройку, но и боязно. Решение оставалось за крайкомом. Запросили ТЭО, привлекли экспертов, делали расчёты и анализ по выбросам, отходам, утилизации и выходило, что этот гигант наделает беды. Но при определённых условиях стройка возможна
Работа была сложная, но главное, интересная. Лично мне, понимающему цифру, было непонятно с точки зрения экономики, зачем? Уголь везут с Кузбасса, у нас на этих чёртовых коксовых батареях его выжигают и опять везут в тот же Кузбасс на металлургические комбинаты. Где логика? Что выигрываем?
— Да поймите вы, – вдалбливали мне, – Кемеровская область и так задыхается, перегружена заводами и потом – кадры. У нас избыток, у них не хватает.
Построили комбинат, построили целый город Заринск. Но как у нас часто бывает, конечно же, не там и, конечно же, с отступлениями от проекта. И, конечно, на то были серьёзные основания и причины… Лет через десять новый секретарь крайкома признался: «Тому, кто дал «добро» на строительство Коксохима, надо поставить памятник. Кверху ногами».
За всё время работы в крайкоме это была, пожалуй, самая интересная работа, а то всё по мелочам. Но особенно мне запомнились первые дни. Не знаю кому как, а мне везёт на сюрпризы. Совершенно случайно я попал в поле общего внимания.
Тогда время было застойное и порой наивные энтузиасты под впечатлением газетной болтовни, в поисках правды пытались докричаться до верхов. Были, конечно, и серьёзные сигналы, по ним принимались меры и виновных наказывали. Короче, к сигналам прислушивались.
И вот зовёт меня к себе начальство и подаёт огромный пакет. Виза на контрольной карточке: «Тщательно разберитесь, это заслуживает внимания. При необходимости подключите парт-госконтроль. Определить степень виновности причастных ведомств. О ходе проверки постоянно докладывать».
Ладно. Стал разбираться. Как развернул пакетище, как разложил, – полкабинета заняли чертежи и расчёты. Всё выполнено каллиграфическим почерком, чертежи идеальные, Одним словом, работа солидная, вызывает доверие. Вкратце суть дела.
Некто Борисенко Н.Г., врач и эксперт по вопросам проектирования здравниц, в пух и прах разнёс утверждённый план перспективной застройки курорта Белокуриха. Всё изложено толково, и выходило, что там вредительство на уровне преступления. Не говоря о капитальных затратах, эффективность самого лечения снижена на одну треть! И только по двум факторам:
— свыше 20% за счёт использования глубинных скважин с повышенной температурой и последующим разбавлением радоновой воды обычной речной водой;
— использование металлических труб при перекачке радоновой воды снижает её лечебные свойства более чем на 10%, так как металл является катализатором и ведёт к распаду изотопов радионуклеидов.
Вывод: огромные финансы на строительство здравницы выбрасываются на ветер. Приводились сумасшедшие суммы!
Предложение: срочно провести перепланировку застройки новых корпусов санатория, подачу радоновой воды вести не с общего коллектора, а для каждого санатория бурить свою скважину и брать воду нужной температуры с разных водоносных горизонтов. Применять только керамические трубы.
С болью заканчивает: “Неужели мы так богаты, чтобы позволять себе такую роскошь, как швырять миллионы на ветер?”
Вот и всё. Приложены всевозможные расчёты, новый план застройки и так далее. Всё логично и главное всё бескорыстно.
Сперва меня всё это ошарашило С чего начать? С какого края ухватиться? Для начала решил проверить расчёты, это моя стихия и я тут в своей тарелке. Что такое? Глазам не верю! Арифметика тут и не ночевала. Решил разобраться с химией, а я в ней дуб дубом. Позвонил в пединститут на кафедру химии, уточнил, что это за штука радон, изотопы и радионуклеиды? Растолковали. Батюшки! Да что же это такое? Хватаю в охапку всего Борисенко Н.Г. и бегом к зав. отделом Егорову.
А надо вам сказать, что Егоров был продуктом своего времени, любил эффекты. Уже и начальству доложил, что почти вывел на чистую радоновую воду врагов здоровья трудящихся. Шутка ли, разбавляли радоновый градус, и это всё люди Гидропроекта. Хоть заводи уголовное дело, как на кремлёвских врачей! Всем многозначительно намекает, что мы зря хлеб не едим, и назревает сенсационное дело. А тут я.
— Василий Игнатьевич, я по делу Борисенко.
— Ну-ну! – Сам руки потирает. – Давай, выкладывай что там?
— Бред сумасшедшего.
— Ка-к?!
— А так. Мне не верите, пусть другие ознакомятся.
— Да ты что?! Не может быть!
Зовёт подмогу из отделов здравоохранения и строительства, стали советоваться. Он им всё пояснительной запиской тычет, чертежами трясёт, сам не верит, что такое звонкое дело сорвалось. На меня волком глядит и чуть с кулаками не бросается.
— Да, – говорю, – тут много оригинального и гениального, интересен даже сам подход к проблеме. Чего стоит только цепочка химического распада изотопов радионуклеидов. Но только всё это галиматья, расчёты липовые, а радон и радий, это элементы совершенно из разных опер. Это говорят химики.
— Что ты суёшь мне под нос эту химию? Ты в саму суть вопроса гляди. Ох, чую, зря мы тебя к себе взяли.
Тут я его и ссадил с облаков:
— Василий Игнатьевич, сколько будет дважды два?
— Не юродствуй! Третий месяц как в крайкоме, а гонору-то.
— Согласитесь, что будет четыре, но никак не двенадцать. Вот сами посмотрите, – и раздал всем справки, расчёты, где ошибки подчеркнул красным карандашом. Минут пять все молча изучали, потом зашумели: “Бредятина!”
Кто-то догадался и предлагает:
— Что мы голову ломаем? Вот же телефон. Василий Игнатьевич, звоните в Каменский горком. Уж они-то должны знать, кто такой этот Борисенко Н.Г.
Звонит. А там, как услышали про него и как из ушата холодной водой:
— Борисенко? Да это же шизик. Душевнобольной. Стоит на учёте и периодически лечится в психбольнице. Хоть он и не буйный, но нас всех заколебал своими проектами. То разработал документацию на строительство в городе метро, то обосновал проект освоения выпуска автоматов Калашникова у нас на авторемзаводе. Сейчас носится с идеей проведения в нашем городе международного кинофестиваля. Пырьев, Шукшин, Кондратюк и даже Калашников – это же наши земляки и их авторитет должен работать на край!
— А вы ничего не путаете? Всё так грамотно изложено.
— Чего тут удивляться? Он одно время работал в проектном институте и у него от перенапряжёнки крыша поехала. Сейчас лечится и всё что-то чертит, клепает свои шедевры.
Вот так. После этого Василий Игнатьевич ушёл на бюллетень, а со мной все стали дружно здороваться за руку. За спиной слышал: “Это тот парень, что Егорова завалил в больницу”. Признали меня все, кроме Василия Игнатьевича. Осерчал. А за что? Да чёрт с ним. И всё-таки он мне в другом утёр нос. Вызывает как-то к себе и говорит:
— Через месяц у Брежнева, юбилей. Семьдесят лет. Надо подготовить поздравительное письмо. Вот Курганский обком уже в “Правде” поздравил. Ознакомьтесь с письмом и попробуйте в этом же стиле написать, – и подаёт мне газету.
— Позвольте, Василий Игнатьевич, я же экономист. Лучше бы вам это поручить отделу пропаганды и агитации.
— Они уже пишут от имени всего края, а мы от имени работников промышленности и сельского хозяйства. Сколько вам потребуется время?
— Думаю часа два, от силы.
— Плохо думаете. Даю два дня. Не торопитесь.
Пошёл думать. Для этого – все условия. В кабинете один. Чисто, уютно, телефон, ковровая дорожка. Утром дал заказ, уплатил за обед копейки, вот ты и на довольствии. В конце недели тебе пакет: мяско, рыбка красная, колбаска, чай-кофе, сгущёнка-тушёнка. Прав мой тесть, Гаврила Михеич, тут уже давно живут при коммунизме.
За такую жратву можно накатать письмо не только генеральному секретарю, но и самому Сатане. Только зря я хорохорился, тут особый случай. Запорожцам было легче писать турецкому султану, там говорилось от души, а тут? В газете у курганцев: «Мы, как и все советские люди, воодушевлённые очередным историческим съездом партии, одобряем и поддерживаем… Надоили… намолотили… выплавили чугуна… И это в честь славного юбилея верного ленинца… любимого…». И всё цифры.
А у нас все показатели трещат по швам. Как тут отработать спецпаёк. Ничего умнее не придумал, как по-кургански прокукарекал попугаем: “Как и все советские люди…”, а дальше, хоть тресни, заклинило и не идёт что ни возьму, всё плохо, сами понимаете, засуха. Зерна меньше, мяса, молока, масла меньше, ввод жилья завалили. Пошёл к Егорову. Слушает он меня, а сам ехидненько улыбается.
— Иди, думай. Время ещё есть. Пофантазируй. Я понимаю, это тебе не цифры складывать, тут надо извилинами шевелить.
Стал шевелить. Набуровил что-то про бескрайние степи Кулунды, непроходимую тайгу и голубые горы седого Алтая. Не знаю, чем бы всё это кончилось, но вдруг звонок. С университета звонит Ковалёв Володя, учёная голова.
— Как живёшь? Чем занимаешься?
— Спасибо. Живу хреново. Вот пишу письмо Брежневу.
— Ты чё, у них думский дьяк? А зачем вообще писать?
— Как зачем? Юбилей. Необходимо в “Правде” поздравление.
— Это я понял, только не пойму, зачем писать? Не проще ли, как у всех людей, позвонить по телефону. И быстро, и от души.
— Нельзя. Надо обязательно через “Правду” и чтоб: “Мы, как и все советские люди… воодушевлённые…» Это же генсек.
— Сталин вас ничему не научил. Нового идола пестуете.
— Ты лучше скажи, что делать? Второй день не получается.
— Если нечего сказать, валяй, как Татьяна Онегину:
Я вам пишу, чего же боле?
Но не могу одно понять,
Зачем по злой партийной воле
В Москву всё мясо забирать?
Эх вы, политики. В крае ни мяса, ни масла, а вы его ещё и поздравляете. Да от него уже спички надо прятать, – и хохочет.
Достал он меня. Хватаю бумаги и рысью к Егорову.
— Не могу! Не получается! Дайте любую другую работу.
— То-то, – усмехается Егоров, – в нашем деле ты господин дерево. Тебе многому надо учиться, так что, прижми хвост. Оставь всё мне, сам напишу.
И точно – написал. Через неделю читаю в “Правде” наше письмо-поздравление и оно не хуже, чем у других. И цифры есть, только фокус в том, что он сравнил все показатели не с засушливым годом, а с аналогичным годом прошлой пятилетки и всё получилось пристойно. Даже был приятно поражён, нашлось в письме место и моим “бескрайним просторам Кулунды и голубым горам седого Алтая”.
Правда, потом мне открыли глаза, что все эти поздравительные письма и телеграммы в честь съездов и юбилеев в Москве вообще никогда не читали. Просто фиксировали, кто прислал, а кто забыл, и делали нужные выводы.
4
И так проработал бы я в крайкоме долго, но беда подкралась с неожиданной стороны. Совершенно случайно я сблизился с помощником самого Сорокина. Звали его Василий Павлович и был он очень своеобразный человек. Ну, во-первых, умница, оно и понятно, дурака на такой должности держать не будут, и во-вторых, всё остальное: решительный, немногословный, всегда со всеми держал дистанцию. Его побаивались, такие помощники всегда вроде кардиналов при короле.
Познакомился я с ним необычно. Поскольку человек – животное общественное, то решил и я влиться в коллектив. Как раз проводили свой шахматный турнир, я только что устроился и участия в нём не принимал, а тут – финал. Игра шла за первое место, встречались помощник секретаря Василий Павлович и зав. отделом пропаганды Кобзев, тоже отличный шахматист.
Я этого знать не мог, прихожу в обеденный перерыв в Малый зал и вижу уйму народа. Сидит этот Василий Павлович, как мыслитель Родена, а напротив его – пустое место. Все что-то ждут и, главное, молчат. Я был новичок, не знал всех тонкостей придворного этикета, потому нахально предлагаю ему:
— Может, сыграем?
Опять все молчат, а он как-то странно посмотрел на меня и буркнул:
— У нас финальная игра. Ждём напарника.
Проходит время, и вдруг новость – Кобзев задерживается и игра срывается. А он, по всему видать, настроился на игру и неожиданно говорит мне:
— Прошу, – думает на мне досаду сорвать и выпустить пар
А я никак не пойму, почему такая тишина и все робеют. Смело сажусь и ещё под Чичикова-Ноздрёва балагурю: “Давненько я шашек не брал в руки. Ой, давненько я шашек не брал…”. Игра началась. Не ради хвастовства скажу, я, как математик, был обязан хорошо играть, так как мог просчитывать комбинации на много ходов вперёд. Раз-раз и ставлю ему мат. Все ахнули, а мне это обычное дело. Василий Павлович на это ноль эмоций.
— Поздравляю, – говорит, – ещё партию?
— Согласен.
Расставили фигуры. Тут он собрался, не рисковал, играли долго, и он влепил мне красивый мат. И опять на лице не дрогнул ни один мускул. Как робот. Пожал мне руку.
— Благодарю. Разрядник?
— Обижаете. Уже кандидат в мастера.
— Хорошо. Завтра в тринадцать тридцать жду. И прошу не опаздывать.
Тут только я и узнал, что играл с самим Василием Павловичем, помощником секретаря. И началось. Почти в каждый обеденный перерыв мы садились за шахматы, и нашу игру сходились смотреть любители. С ним мы вроде и признакомились, но дружбой это назвать было нельзя. Он меня уважал, но близко к себе не подпускал, да я, честно признаться, и не набивался в приятели, и это ему нравилось. Но одну услугу он мне всё же оказал. Роковую. Да такую, что я чуть не поплатился головой.
Готовились к очередному пленуму. Ясно, что Сорокин выступает с докладом. Все отделы со справками носятся как угорелые: строчат, уточняют, согласовывают, переделывают. Мы тоже подготовили справку. Потом их все свели, доклад отпечатали и раздали по экземпляру отделам для проверки. Я тоже получил доклад и читаю. Дошёл до нашего раздела “Экономика” и ахнул. У нас по анализу поголовье свиней в крае снизилось на 2,5%, а в докладе, наоборот, рост на эту цифру.
Что это, опечатка? Или моя ошибка? Проверяю копию нашей справки, – нет! Всё правильно, спад, а не рост. Что делать? Тут конец рабочего дня и, как на грех, нет Егорова. Я – рысью к Василию Павловичу. Так, мол, и так, ошибка по разделу животноводства. Объясняю, горячусь, своей справкой трясу.
До сих пор не пойму, как это человек без нервов, умный и рассудительный, знающий все интриги и тонкости партийного двора, согласился со мной. И даже, если согласился исправить цифру, не удосужился тщательно проверить через орготдел? Уж они-то каждую цифру и букву проверяли на сто рядов. И как я его убедил? Невероятно, но факт. Он только сперва проверил все сводки сельхозуправления, полистал мою справку, подумал и… дал команду машбюро перепечатать лист в экземпляре доклада Соркина.
И тот с трибуны в присутствии зав. отделом ЦК и зам. министра по сельскому хозяйству, всех ошарашил: “… наконец-то в крае достигнут, хоть и небольшой, но всё же рост поголовья свиней, – перевернул страницу и по нашему исправленному ляпнул: – в результате принятых мер их поголовье резко уменьшилось, на тридцать восемь тысяч голов…”
Сказал всё это с разгона, тормознул и сам удивился. Наступила жуткая пауза. Ничего не поймёт. А в зале звенящая тишина, потом оживление и пошёл смешок. Но Михаил Фёдорович был мужик битый, мигом сорентировался и отшутился каламбуром:
— Виноват. Надо разобраться, кто из борзописцев подложил мне свинью?
В зале уже хохот, московские гости улыбаются. Шутка высокого начальства всегда самая смешная. Он, конечно же, догадался, в чём дело, и по ходу доклада сам себе срежессировал и с честью вырулил. И как! Дождался, когда все угомонятся да как врежет.
— Ну, что, отдохнули? Расшевелили вас свиньи? А теперь успокоились и давайте поговорим серьёзно. Впервые за много лет у нас в крае резкий сброс поголовья свиней, на тридцать восемь тысяч, это не может не беспокоить краевую партийную организацию. Хотелось бы спросить руководителей Сорокинского, Бийского … районов, почему… Кормов не хватает? Тогда как объяснить, что у соседей, при той же кормовой базе идёт рост поголовья и неплохие привесы?
Тут уж не до смеха.
Не до смеха было и нам на другой день. Егорова чуть кондрат не обнял и мне казалось, что он даже поседел и сытая рожа скукожилась, как печёное яблоко. На меня он даже не сердился, смотрел, как на пустое место, как на покойника. Я всё понял, а как понял, так сразу и успокоился. Только об одном жалел, что подвёл друга, Василия Павловича. Перехватил его в коридоре, стал извиняться, но он вёл себя как-то странно. Первым подал руку и крепко пожал, а на весь мой лепет только и сказал: “Да не тарахти ты. Образуется”.
Зато Егоров, сидел как на иголках, ждал, когда поволокут на гильотину, а как вызвали, побледнел. Меня прихватил с собой, как заложника-смертника. Не буду говорить всех деталей “беседы” у Сорокина, как он мочалил и копытил моего зав.отделом, одно скажу, говорил крепко. Да и было за что.
— Одетый, сытый, вон какую харю разъел, в рубаху не лезет, так хоть бы честно хлеб отрабатывал. Бумажку написать и то не может, на посмешище выставил! Да тебе за этими свиньями ходить и то нельзя доверить!
Егоров изредка что-то невнятно блекотал и всё пытался перевести стрелки на меня, но не тут-то было. Сорокин его не слушал.
— Кто зав. отделом? Ты? Вот с тебя и спрос! И вообще, ты зачем его сюда притащил?
А когда отвёл душеньку на нём, то и до меня дошла очередь.
— А ты, херувимчик с красным дипломом и куриными мозгами, какого хрена полез туда, куда кобель свой хрен не пихал? Это твоё дело?
Мне бы молчать в тряпочку, но молодой был, с придурью, лезу бодаться. Как молодой петушишко, что ещё и петь толком не научился, взял и прокукарекал:
— Согласно Устава, член партии имеет право… не взирая на лица… всех снизу доверху… сверху донизу…
— Ду-урак! – Говорит Михаил Фёдорович. – Ты хоть маленько фильтруй, что несёшь. Неужели ты такой тупой, что не соображаешь, уж если поправил слово или цифру, то будь любезен, прочти и посмотри, что у тебя получилось с общим текстом… Нет, я не могу! – И к Егорову: – Где вы только набираете таких придурков? За это в тридцать седьмом полагалось…
Тут я совсем обиделся и ещё раз лягнулся:
— Это вам не тридцать седьмой год! И от вашего липового роста поголовья свиней на прилавках мяса не прибавилось бы!
С Егоровым стало плохо, пригоршню валидола заглотил и за сердце уцепился. Зато Михаил Фёдорович аж зашёлся. Подскочил ко мне, кулаки сжал и ногами затопал:
— Во-он! Вон из кабинета!
Я пулей вылетел. Всё. Можно теперь уже собирать вещички. Хоть и жалко было, но убеждаю себя, плевать я хотел на вас и спецпайки. Перебьемся. Думаю, что тесть мой, Гаврила Михеич, меня поймёт. Отработал в высших эшелонах власти.
5
Надо вам сказать, что в тот злополучный день ко мне из деревни приехала маманя. Зачем я сюда приплетаю маманю? Это чтоб вам в нашей истории всё было понятно, придётся рассказать и о ней. Мать моя, Лукерья Филипповна, прекрасной души человек. Жили мы семьёй в Ельцовке и, как ни странно, в соседях с этими Сорокиными. Отец Михаила Фёдоровича, Фёдор Кузьмич, был председателем колхоза и в тридцать седьмом его арестовали как врага народа, Осталась его жена Елена Васильевна с тремя ребятишками, Мишаня старший. Помыкалась уж она, сердешная. Как же, семья врага народа! С ними не то что знаться, здороваться боялись.
Работала учительницей, выгнали. Сами понимаете: чему научит жена врага народа? Хорошо хоть в колхоз приняли на работу. Днями – то на свинарнике, то в поле, а ребятишки без присмотра.
Моя маманя работала дояркой и домой средь дня наведывалась. За одно и за “сорочатами” приглядывала и подкармливала. Смелая она была, ничего не боялась. Отец тракторист, люди безграмотные, с политикой не путались. Так и жили.
Тут война. Забрали отца на фронт и остались одни бабы, старики да ребятишки. Жить стало труднее и, как на беду, у Соркиных ещё пала корова. Известно, где тонко, там и рвётся.
В те трудные военные годы деревня выжила благодаря коровёнке и огороду. Все много сажали картошки. «Сорочата» дневали и ночевали у нас. Зимы тогда лютые были, вроде и бор под боком, а дров нет. Разрешали собирать только шишки и сучья, а их попробуй заготовь на зиму. Так вот один год они семьёй даже зимовали у нас. Тесновато было, зато жили весело. Корова у нас была, Зорька, хорошо доилась, молока хватало на два двора. А сдружились семьями, потому как нас породнила беда.
Сперва Сорокиным пришёл серый пакет и в нём сообщалось, что помер Фёдор Кузьмич «от острой сердечной недостаточности». Выли Сорокины три дня, и маманя, как могла, их утешала. А через два месяца и нам принесли похоронку на отца. Теперь мы завыли, и Елена Васильевна отливала маманю водой и отваживалась с ней.
Потом Сорокиным новый пакет: мол, ошибка вышла, не виновен Фёдор-то Кузьмич, полностью реабилитирован. Спасибо и на том, хоть имя спасли. Уехали они из Ельцовки, потом сестра Мишани вернулась назад и стала работать учительницей в начальных классах. От неё и узнали, что Мишаня подался в науку, учился в Тимирязевке, а на целине начинал с агронома, потом попал в райком и добрался до крайкома.
Уже работая секретарём, приехал на родину, в Ельцовку. Домик их стоял в конце села, дорога скверная. После его приезда туда и дорогу провели и его сестру срочно поставили зав. районо. Когда он об этом узнал, то осерчал. Как-то звонит в райком:
— Что ж вы делаете там? Зачем угодничаете? У сестры и высшего образования нет, вы что, с ума посходили?
Крутой был мужик.
В тот день, когда Михаил Фёдорович выгнал меня из кабинета, моя маманя по телефону созвонилась с Еленой Васильевной и та затащила её в гости. Что ты! Подруги. Такую лихую жизнь прожили, есть что вспомнить. Одна хвалит своего сыночка Мишу, другая родную кровиночку Петечку.
— Он ведь тоже в крайкоме работает, там, где и Миша. Только вот, признал ли он его?
— А мы это сейчас узнаем, – говорит Елена Васильевна, – берёт трубку и звонит помощнику, Василию Павловичу. – Вася, там у вас работает Петя Соломин, знаешь такого?
— Знаю, – говорит, – а в чём дело, Елена Васильевна?
— Прошу тебя, срочно привези его ко мне. Надо позарез. Только Мише пока не говори, я сама ему позвоню.
И вот сижу я и переживаю. В голове пусто, на душе тошно. Конец моей карьере. Это только подумать! В нарушение Устава партии и её демократического централизма первый секретарь чуть ли не пиночьями вышвырнул рядового члена партии. Что делать? И так мне себя жалко стало, сыплю соль на рану и думаю: а может, пойти и напиться? Чувствую, нос зудит.
Вдруг открывается дверь, входит Василий Павлович и без всяких предисловий командует:
— Собирайся. Поехали.
Поехали. На крайкомовской «Чайке». Ого! Только вот куда? Он молчит и я молчу, а сам соображаю: в психушку или каталажку, навряд ли, не те времена, да туда на «Чайках» не возят партийных грешников, много чести. Вот подъезд девятиэтажки, стоит милиционер. Василий Павлович что-то ему сказал, потом мне:
— Иди. Второй этаж, квартира четырнадцать. Там тебя ждут.
Поднимаюсь. Звоню. Открывают. «Проходите», говорит пожилая женщина, сама улыбается. Кто это? Где-то видел, а не могу вспомнить. Но тут и маманя нарисовалась. Догадался. В общем, охи, ахи, кудахчат и тащат меня за стол, а на нём чего только нет.
— Ты не стесняйся, Петя, – говорит Елена Васильевна, – мы ведь с Лушей, как родные сёстры. Она мне роднее родных. Я ей по гроб жизни обязана.
И давай опять про тридцать седьмой год, про войну, как болели, как голодали и добрым словом помянули нашу корову Зорьку, как она спасла нас всех. И выходило, что через эту корову мы с её сыночком Мишей молочные братья. Так и сказала, «молочные братья». Мне как-то не по себе, уж больно много событий для одного дня, голова идёт кругом. Сам думаю, знали бы вы, как меня сейчас «молочный брат» отметелил, другое бы запели.
А Елена Васильевна как мысли читает:
— Ты, Петя, с Мишей-то хорошо знаком?
— Ой, хорошо знаком. Только что от него. По душам говорили.
— Постой, постой. Как же ты с ним знаком, если он мне о тебе ничего не говорил? Не может этого быть.
— Так он же не знает, что я из Ельцовки. И потом, как он меня узнает, если мне тогда было тринадцать, а сейчас почти тридцать.
— И ты не сказал, чей ты? – Изумилась Елена Васильевна.
— Зачем? Ещё подумает, что лезу карьеру делать.
— Не-ет, как это вам нравится? О чём ты говоришь, Петя? Постыдись. Вы же с ним на одной печи спали, один хлеб с мякиной ели. Нет, так не годится, – и за телефон.
Господи! Вот попал в переделку. Что делать? Хотел уйти, мол, дела ждут, да куда там! «Сиди!» Сижу. А они раздухарились, наливочки примут и всё фотокарточки рассматривают и ля-ля.
— А вот Мише два годика… ой, батюськи, без штанов. Всё табачишко теребил. Привычка такая была.
— Да, да, помню, – подхватила маманя, – Нюрочка Колупаева всё говорила: «Большой начальник будет, это верная примета!» Как в воду глядела.
Что бы я не скучал, Елена Васильевна достала из буфета коньяк. Но какой! Я такого и не видел. В хрустальной бутылке-графинчике со всякими выкрутасами. Старинный Бурбон из Франции. Налила стакан, я и думаю, а ведь не зря нос чесался.
— Выпей, Петя. Нет, не отказывайся, а то обидишь. Пей смелее, а то Миша второй год никак не осилит. Всё напёрсточками цедит. Помоги ему.
Ну, Петя и помог. Для храбрости осадил стакан, вкуса не разобрал, но дух захватило. И только заглотал, как вдруг открывается дверь и входит молочный брат. Увидел меня с его Францией и вытаращил глаза, затряс башкой, а руками от глаз отмахивается, как от привидения, не чудится ли ему? Его состояние можно было понять. Вчера я его на пленуме подставил со свиньями, сегодня по-поросячьи нахамил в кабинете, а сейчас в его родном доме, как последняя свинья, хлещу коллекционный коньяк. Сцена, скажу вам, жуткая. Это словами не передать. Но тут Елена Васильевна тянет его за рукав и заговорщицки шепчет:
— Угадай-ка, кто это у нас в гостях? – На маманю показывает. ,
Он пригляделся и вдруг расплылся в улыбке от уха до уха.
— Узнал! Тётя Луша! Здравствуй, родная! – Как кинется к ней, обнимает, нацеловывает, та в слёзы, Елена Васильевна – за ней. Господи, прямо навзрыд, как с ума посходили, аж подвывают.
— А это кто? – сквозь слёзы Елена Васильевна, – не узнал?
— Нет, не припомню.
— Да это же Петя, так сказать, по Зорьке твой молочный брат…
Я не силён в психологии и не могу описать что можно было прочитать на его лице, кроме досады, изумления, радости и сожаления. Много ещё чего было намешано. Согласитесь, такой оборот дела хоть кого выбьет из колеи. Он даже рот открыл, совсем как наш деревенский дурачок Ганя Осипов.
Потом все разом загалдели. Смотрю и глазам своим не верю. Из первого секретаря Михаил Фёдорович превращается в простого мужика. Галстук снял, расстегнул ворот, в одних носках и, главное, лицо изменилось и стало простецкое, смешливое. Надо сказать, что к тому времени Елена Васильевна серьезно болела и он всё делал, лишь бы скрасить её последние годы. А тут такой случай. Давай они вспоминать родную Ельцовку, всё про какого то Стёпу буровят, опять давай тусовать фотокарточки, смеются, как он всё теребил табачишко. И он смеётся. Потом маманя и спрашивает:
— Мишань, а как мой Петруша работает? Справляется?
У меня сердце захолонуло.
— Ещё как справляется, – говорит «Мишаня», – вчера помог на пленуме с докладом, сегодня доходчиво растолковал про Устав.
— Значит, справляется, способный? Ну и слава Богу. Он же учёбу закончил с красным дипломом.
— О-о! Не то слово, тётя Луша, экономический гигант, – и посмеивается.
Тут он посмотрел на часы и заторопился.
— С вами хорошо, но надо на работу. Там меня люди ждут. Неудобно опаздывать. Тётя Луша, ждём вас в любое время в выходные или после работы. Чтоб посидеть не спеша. Ты даже не знаешь, как я рад тебя видеть. Машину за тобой пришлю.
Я тоже засуетился, но Елена Васильевна вмешалась:
— Миша, пусть Петя побудет ещё с нами.
— Конечно, оставайтесь, Пётр Сергеевич, – говорит он, а сам галстук нацепил, на все пуговицы застегнулся и опять как одел маску. Строгий и официальный.
Я заартачился, вроде и у меня тоже горят важные партийные дела, но он позвал меня из коридора и один на один шепчет:
— Мы, братишка, потом потолкуем, а сейчас делай, что они говорят. Сиди с ними, сколько надо. Исполняй.
6
Прихожу на работу и места себе не нахожу. Как теперь себя вести? Вызывает Егоров и, как ни в чём не бывало, даёт какое-то дело. Сделал. Похвалил и даёт другое. Вроде и не было никакого недоразумения, и это не он давился таблетками из-за меня. И от этого ещё противней. Чувствую себя прокажённым, от людей шарахаюсь, кажется, все недвусмысленно ухмыляются во след: «Этот гусь с мохнатой лапой!»
Как-то открывается дверь и входит Василий Павлович.
— Пётр Сергеевич, вы ко мне в претензии?
— Да что вы! Как раз наоборот.
— Почему шахматы забросили? Жду.
Три дня промучился, Сорокин не вызывает, тогда сам стал проситься на личный приём. Да не тут-то было, у него дел и без меня по горло, всё расписано по минутам. И всё-таки попал. Вхожу. Он сам подымается мне на встречу. Улыбается.
— А-а! Молочный братишка пожаловал. Проходи, садись. Сейчас чай принесут и, не торопясь, побеседуем.
Я напружинился, как кот, шерсть дыбом, искры сыпятся. Но стараюсь держаться спокойно и с достоинством, а оно не получается. Сумбурно что-то выкрикиваю, как пьяный на митинге:
— Я не виноват! И не карьерист!.. И протеже мне вашего не надо… думаете, это я всё подстроил с маманей?
— Успокойся, брат. Садись, что ты стоишь? Давай потолкуем.
И тут я сломался. Если бы он стал кричать, а к крику я уже привык, то всё бы стало на свои места, а он не кричит, и это как-то неестественно! Чую, вот-вот зареву. Стыд-то какой, ну баба истеричная, да и только. Чтоб не сорваться, перекрыл в горле все краники и шёпотом, как плохой артист драмы, прошу его:
— Отпустите меня с миром назад. За то, что подвёл вас на пленуме и нахамил, простите. Не по злобе всё это, а по дурости. Новичок я в этом деле.
— Нет, – говорит Михаил Фёдорович, – в этом ты как раз и прав. Только не надо было здесь орать и кидаться с двумя кулаками на одного медведя. Чёрт с ними, со свиньями и скандалом, скажи только честно, зачем ты мой коньяк стаканами выжрал? Ты хоть знаешь, что это было? Бурбон сорокового года! Мне его во Франции коммунисты подарили. Что за букет! Эфир! Его напёрстками смакуют, а ты стаканищем. Вот это плохо.
— Это я со страха, – говорю.
И тут он как захохочет. Взахлёб, от души.
— Ой, молодец! Ну, молодец! Ладно, проехали. Не переживай, Петруха, я же всё понимаю. Это у нас, ельцовских, бывает. Деревня такая боевая и люди все отчаянные. Только вот отпустить тебя с миром, тут посложней. Отсюда так просто не уходят. И другое ясно, здесь тебе не работать.
И ещё к сведению. Я разобрался, почему завысили поголовье свиней. Тут, брат, не столько нашей политики, сколько твоей экономики. Знаешь, почему напряжёнка с мясом? Всё упирается в корма. Наше алтайское зерно ценится, сам знаешь. Вот и выгребают его, вплоть до фуражного, думают, выкрутимся, только вот как? Есть только одна возможность – увеличить поголовье, тогда увеличиваются фонды кормов. Улавливаешь? А это было бы дополнительно сорок тысяч тонн комбикормов. Сельхозники подсуетились, а ты своей правдой всё им изгадил.
— Но это же чёрте что! А как с государственной отчётностью? И потом, что выгадываем? Чем больше поголовья, тем больше план по мясу.
— О чём ты говоришь? Сразу видать, что ты ходишь по розовым облакам. Запомни, всё в руках человека. Не поверишь что скажу, но это не анекдот. Одно время у нас в Сибири сеяли хлопок и разводили тутового шелкопряда.
— Не может быть!
— Может. Мало того, так мы ещё получали медали ВДНХ. Шелковичного червя приписали и, что ты думаешь, со свиньями не разберёмся? Конечно, ты тут прав, нас негласно заставляют изворачиваться. И это не только тебе противно. Поверь.
Хорошо поговорили. Думаю, что ему давно хотелось поговорить по душам, только не с кем. Его должность невольно заставляет окружающих или поддакивать, или преданно заглядывать в глаза. Со мной было проще: во-первых, я с ним грелся на одной лежанке и, во-вторых, земляк. Стал вспоминать отца:
— Попросил ребят из КГБ разыскать в архиве дело «врага народа Сорокина Ф.К». Это документы о последних днях и часах отца. Только представь, в деле и на фотографии отец моложе меня! Листаю эти страшные листы. Вот он ордер на обыск и арест, протоколы допросов, нелепое обвинение в контрреволюционном заговоре, выписка из протокола Особого Совещания при коллегии ОГПУ и вот оно – постановление-приговор: «… признать Сорокина Ф.К. виновным по статье 58-11 … применить ВМН (высшую меру наказания) – расстрел». Тут же приложен другой страшный документ: акт № 98 от 27 августа 1937 года, 5 дня: «… по поручению ЧК при коллегии ОГПУ… сего числа в 3 часа 30 минут приговор приведён в исполнение». Росписи: член коллегии, присутствующие, комендант.
Дело отца закрутилось по доносу земляков, один из них, Ноженко Егор Иванович, активист из сельсовета, был ещё живой.
Не утерпел, приехал в Ельцовку, как раз награждали коммунистов с пятидесятилетним стажем юбилейными знаками. Поздравил его, жму руку и говорю: «Если бы мой отец Фёдор Кузьмич видел это со стороны, то очень бы удивился. Не правда ли? Он вам за ту услугу не снится по ночам?» – сам смотрю ему в глаза, а он их отводит. И ты не поверишь, потом узнаю – на другой день умер коммунист Ноженко. А дедок ещё крепенький был. Дорого бы я дал, чтобы узнать, от чего он умер, от страха или совести?
— Я про отца ничего не знаю, погиб под Сталинградом и всё.
— Тут нас с тобой, мой молочный брат, судьба одной краской пометила.
Пока беседовали, выпили по три стакана чаю. Наконец, Михаил Фёдорович поднялся и посмотрел на часы.
— Заболтались мы с тобой. Думаю, с совестью у тебя всё в порядке, а потому пока работай без фейерверков, а насчёт работы я подумаю. Вот так то, молочник.
И опять – как надел маску и застегнулся на все пуговицы. Даёт команду в приёмную:
— На шестнадцать ноль-ноль приглашены директор тракторного завода и начальник сельхозуправления. Приглашайте
7
Работаю. Сам думаю, может, и правда, освоюсь, жить-то так можно. К спецпайкам привык, морда уже стала округляться, квартиру обещали поменять…
Но опять подвернулось испытание в виде курьёзного размышления и опять через свиней. Чёрт бы их побрал, всё они у меня на пути попадаются. Однажды раздаётся звонок из бюро пропусков, просят спуститься. Спускаюсь, Поджидает меня какой-то мужик, сразу видать, что деревенский. Морда калёного кирпичного цвета, одет хорошо, но неряшливо: на коленях пузыри, карманы оттопырены, весь мятый и всклокоченный.
— Здорово, Петруха! – И радостно тянет свою клешню. – Не признал? Это же я, Сёма Редькин! Ну, Сёма же.
— Постой, постой, – стало что-то у меня проясняться, – ты сын конюха Бориса, так?
Действительно, земляк, только не пойму, каким ветром его занесло в крайком. Поздоровались, как-никак, земляк.
— Сёма, у тебя какое-то дело?
— Конечно, дело. Мне бы с тобой перетолковать
Веду его к себе, сам всё удивляюсь, какое у него может быть дело в крайкоме? Сёма был чуть постарше меня и, как бы помягче сказать, маленько того, с приветом. Закончил всего три класса, зато сидел по два года в каждом. Потом отец вынул его из науки и пристроил к себе на конюшню. Хоть учёба у него и не заладилась, но работник он был отменный. И женился на девахе тоже без особых талантов, но работящей и доброй.
За чаем он мне и рассказал презанятное и как на духу. Его история началась в период бурного чудачества Никиты Хрущёва, когда все поля ощетинились кукурузой и мы рысью стали перегонять Америку по молоку и мясу. Причём свиней стали разводить все, даже братья – казахи. Для них родное, барашки с лошадками, но свиньи – это перебор! Между Кораном и чушкой столько же общего, сколько между чёртом и ладаном. Ну, не любят, даже партийные мусульмане, свиней. А тут приказ сверху – разводить! Как всегда – план, сроки, контроль. Обком кулаком грозит: «Партбилет на стол или свиньи!» А кто ты без билета по тем временам?
И вот один колхоз, только чтоб от него отвязались, выстроил в степи свинарник, стали искать туда работников, да не тут-то было. Все казахи нос воротят. Поехали агитировать добровольцев среди наших и заарканили Сёму. Поехал он, устроился, перевёз семью и зажил бирюком в степи. А что? Сам себе хозяин и зарплата хорошая. Председатель колхоза чудак попался.
— Ты тут полный хозяин, нам чушки не нужны. – Говорит на полном серьёзе. – Потерпи маленько, а как даст Аллах, они все передохнут, ты убегай. Мы тебя даже искать не будем, у тебя справка есть, что голова худая.
Сёма думает, что это он так шутит, и с дури так развернулся, что свинарник сделал образцовым. Взаправду стал хозяином. Ветврач, зоотехник, ревкомиссия на свиней смотрели раскосыми очами вприщурку. По-азиатски. В степи появлялись только одни шофера и то с подветренной стороны. Поставят машины с комбикормом и ждут, когда он их по очереди подгонит к складу и выгрузит. А сами плюются и морщатся.
В первый год он с семьёй откормил более двух тысяч голов, а это за две сотни тонн чистого мяса! На второй год – и того больше. Тут уже и послабление вышло, мол, погорячились со свиньями для правоверных. Попирали их религиозные чувства, потому у всех соседей они разом передохли, можно бы и Сёму увольнять, а тут сенсация! По какому-то соцсоревнованию казахскому колхозу присудили первое место и за что? За развитие (да простит Аллах!) свиноводства! Колхозу – знамя и огромная денежная премия, Сёме – уважение и премия, председателю орден, а секретаря перевели работать в обком! Вот тебе и свиньи.
И так он проработал в степной глуши один целых десять лет. До центральной усадьбы десять вёрст, а до города сорок. И ни радио, ни газет, тем более телевидения. Да что он уж совсем чокнутый? Не скажи. Все эти десять лет Сёма челночил на мотоцикле на городской базар, втихаря приторговывал поросятами и мясом. Вот тебе и мужик с веером в башке и справкой. С отчётностью у них было просто – бухгалтерия приходовала то, что он им говорил. И всё-равно свиноводство давало колхозу огромную прибыль, так как воровал только один. Воровал по совести и с умом. Вот когда с колхоза тянут все, тогда хозяйству хана.
И скопилось у него этих деньжищ, как у дурака махорки. Вдруг заохотило купить «Волгу». Вспомнил про земляков и подался в крайком.
— Ты, Петюня, – говорит, – помоги. Не стесняйся. Бери сразу две машины. Одну мне, а другую себе, это за услугу. Если ещё кого надо зарядить, ради Бога! Ты потолкуй с Михаилом Фёдоровичем, он мужик наш.
Ну и Сёма! Ну и земеля! Мне показалось, медики зря дали ему справку.
— Что же ты в таком почёте у них, а без «Волги»?
— Опоздал я и перемудрил своей бестолковкой. Они сперва говорили, что «Волги» продаются только достойным людям – орденоносцам. Вот я и заканителился с орденом Ленина.
— С орденом Ленина? – Изумился я. – Ты? С орденом Ленина?
Тут Сёма понёс какую-то несуразную дичь:
— Но это не от жадности. У меня денег и на Героя хватало, но они сказали, что это не Россия и тут Героя дают только за баранов и лошадей. И то своим. Свиньи тянут только на Ленина.
— Кто это говорит?
— Кто награждает и делает «достойных людей». Вы, партия.
— Неужели это правда, что ордена покупаются?
— А то нет? – И смотрит как на недоумка. – Будто не знаешь.
— Получил орден?
— А это что, хрен собачий? – И вытаскивает из кармана золочёный орден, обдул его от табачных крошек и показывает.
— Что же ты его не носишь? Это же высокая награда.
— Ага, награда. Это моё горе. Как получил, так сразу беда и приключилась. Только вручили, только обмыли, тут и давай меня пасти. На базаре ОБХСС заловил с поросятами. Вытрясли они с меня, что им положено, а теперь другие принялись. Теперь на мою работу у них очередь, и Коран не пугает. Решил переезжать, машину теперь не купить. Помоги, я отблагодарю. Чем этим нехристям, так лучше сунуть своим, крайкомовским.
Втолковываю ему, что здесь по-другому и проще купить «Волгу» с рук, а его как заколодило: «Новую хочу. Старую подсунут, а я в ремонте не разбираюсь. Помоги!» – И деньги суёт.
Выходит Сёма Редькин с тремя классами утёр нос Карлу Марксу и поправил его в части прибавочной стоимости на отдельно взятом свинарнике. Только вот теперь мыкается с ней и не может по формуле «товар-деньги-товар», купить этот самый товар в виде «Волги».
Ну, да чёрт с ним и его поросячьим капиталом. Меня его история натолкнула на очень важную тему – труд и его признание.
Только представьте, Алексей Стаханов за смену выполнил месячную норму! Ему, конечно, Героя, а всей стране на него равнение! Политрук Брежнев на Малой земле вручал партбилеты тем, кто шёл на смерть, зато теперь получил святой орден Победы, которым награждали только полководцев за победы, такие, как за Сталинград или Курскую дугу. Чудеса, да и только!
А что является мерилом достоинства человека? Капиталисты вообще не признают каких-либо знаков отличия, кроме наград по защите отечества
Единственная престижная награда – это Нобелевская премия, за заслуги перед человечеством. К ней лауреату прицепом идёт премия не менее ста тысяч долларов. Но и эта премия оказывается сомнительной. Когда её присудили Бернарду Шоу, то он от неё отказался и сказал своё знаменитое: «Изобретение динамита ещё можно простить Альфреду Нобиле, но только враг человеческий способен придумать Нобелевскую премию!» Каково?
У нас за труд причиталось от Героя до Почётной грамоты. Прав Сёма Редькин: кому что и когда давать решала партия, а раз так, то кто были достойными? Генеральному секретарю к ордену Победы добавили ещё четыре звезды Героя и двенадцать кило орденов помельче. Мужик он был добрый, не забыл товарищей по партии, одарил их и целовал взасос.
Ещё была мода награждать руководителей братских партий, начиная от бородатого Фиделя Кастро и кончая Луисом Корваланом. Все первые секретари компартий соцстран, как правило, награждались орденом Дружбы народов.
Кого ещё награждали? Понятно, что начальство, артистов, учёных, политиков. Короче, всех тех, чьё имя на слуху или, как говорил мой тесть Гаврила Михеич, «людей разговорной деятельности». Трактористам и токарям тоже перепадало, но их много, поэтому награждали по разнарядке. Вот вам на край два Героя и несколько сотен орденов и медалей в ассортименте.
Как определяли кого награждать? Всё зависело от того, от кого зависело…
Больше всего меня поразило в этом, что Сёма Редькин до этого докумекал своим скудным умишком, а мне с красным дипломом дошло с его подачи. И опять душу зацарапала совесть, засаднило, как будто принимаю участие в чём-то гаденьком.
Однажды в конце рабочего дня входит сам Михаил Фёдорович. О, где демократия! Секретарь заглянул к рядовому инструктору! Это же диво! Все сотрудники, кто мышкой прошмыгивал в это время мимо моей двери, умирали от зависти.
— Как, брат, дела? Как здоровье? Что нового?
Поговорили о делах, потом ему всё и выложил: про свиней, про деньги, про орден Ленина и «Волгу». Заикнулся про своё исследование по награждению и оценке труда, но он перебил:
— Ты держись подальше от таких, как Сёма Редькин, а насчёт наград, что тебе сказать? Не забивай себе голову пустяками, ты уже лучше меня знаешь, как и кому их дают. Зачем тебе это? И разве это главное? Лучше скажи, не передумал насчёт перевода?
— Нет.
— Выходит, не дозрел. Работай. Эх ты, Нобелевский лауреат.
8
Прошло ещё несколько лет. За это время, пожалуй, самая интересная работа была в связи с Кулундинским каналом. Наш край – зона рискованного земледелия: то всё вымерзнет, то всё высушит. Мороз пока нам не подвластен, а вот с засухой надо подумать. Одна умная голова и предложила: «А что если нам обводнить засушливые районы, вплоть до Кулунды?»
Поскольку тогда была мода покорять природу, осушать болота и обводнять пустыни, то решили отщипнуть и от Оби–матушки маленькую речушку. А что? На юг реки уже поворачивали, на Севере каналы рыли, а тут новое – на запад! Даёшь норд-вест! Вообще-то Москва возражала против строительства, но крайком настоял и курировал эту работу.
Меня включили в рабочую группу, и я с головой окунулся в этот интересный проект. Были командировки, встречи с геодезистами, проектировщиками и строителями. Не знаю, что уж такого я сделал своим умишком, но меня даже хвалили.Тут хоть видна реальная перспектива. Прикладываешь руки к стоящему делу. Больше десятка районов получают возможность организовать полив многолетних трав, а это гарантированная кормовая база, а её итоги в животноводстве – мясо, молоко, масло.
Вдруг вызывает Сорокин. Прихожу. Сажает. Приносят чай. Сам угощает. Он-то думает, что интересная работа и спецпайки сделали своё дело – прикормили. Столько времени партия кормила меня с ладони, должен стать ручным.
— Молодец, братишка. Наслышан о твоей кипучей деятельности. Так держать! Надеюсь, теперь остаешься у нас в аппарате?
Я как норовистый жеребёнок брыкаюсь.
— Отпустите, ради Христа! Не могу.
— Что, собственно, тебя не устраивает и почему?
— Совестно. За всё время два-три стоящих дела, а то всё мышиная возня. Говорим одно, думаем другое, а делаем третье.
— Но ты же не бездушный компьютер и не глупый малый, должен знать, что не всякую правду можно говорить. Есть ложь во имя блага.
— Не согласен. Ложь, она и есть ложь, и это всегда плохо.
— Не скажи. Врач не скажет больному, что его дни сочтены, а наоборот, подбодрит и вместе навалятся на болезнь. А чтоб спокойно жило государство, где 250 миллионов душ, не обязательно знать всем, что рвануло, где бастуют. К чему паника?
— А что люди должны знать, это, конечно, решаете вы? Киевские и афганские события тоже? Судье и прокурору тоже советуете, как поступать? Это мы уже проходили с двадцать восьмого года, и вы это знаете лучше меня.
— Вали всё кулём, потом разберём. Ещё что накипело, валяй. Я тебе потом всё по полочкам разложу. Смелей.
— Разговор начистоту? Без оргвыводов?
— Слово коммуниста. Если этого мало, то даю слово старшего брата. Для демократии давай перейдём на «ты». Очень даже интересно послушать. Валяй, мы здесь одни.
— Хорошо, облегчу душу. Слушай. Неужели сам не задумывался и не замечаешь, что идём не в ту сторону? Что врут газеты – это мелочь, это идеология и это даже по-своему можно понять. Но чем объяснить, что безграмотная крестьянская Россия, без тракторов, на одной лошадёнке и сохе, кормила себя и ещё пол-Европы. Наш хлебушко ели и в Бразилии, и в Америке.
Сейчас по выпуску тракторов мы на первом месте в мире, по академикам и диссертациям тоже первые, а закупаем по двадцать-тридцать миллионов тонн зерна и кукурузы у заклятых врагов, у той же Америки, Канады и Румынии. Знаешь, почему у них получается, а у нас нет?
— И почему? Очень интересно.
— Может, не будем, а то далеко зайдём, ведь сам же знаешь.
— Ну, нет. Раз начал, давай всё до конца.
— Только не обижайся. Мне кажется, это потому, что у них нет парткомов. Нет этой «организующей и направляющей» силы, они просто работают без погоняла и, главное, знают за что работают. Иначе им не выжить. Они не кормят нахлебников во всём мире, только ради того, чтобы они молились на социализм.
Вижу, мой молочный братишка хмурится и качает головой.
— Очень доходчиво, что ещё не устраивает?
— По выпуску ширпотреба – мебели, обуви, одежды – мы тоже впереди на душу населения, а все мечутся и ищут югославские дублёнки, японскую радио-видео технику и итальянские «русские» сапожки. Наше всё брак, да и кто будет лезть из кожи за нищенскую зарплату? Была даже пятилетка качества, а итог?
— Это всё у тебя? Всё это демагогия. Есть вещи подороже и поважней. Если ты такой любитель цифр, то должен знать, что в той же сытой Америке безработных около пяти миллионов.
— Но эти пять миллионов безработных ездят на биржи труда на личных авто, и это пособие больше оклада нашего академика.
— Зато у нас, худо-бедно, все сыты, одеты и есть крыша над головой, работа, которая кормит. И большинство довольно.
— Конечно, довольно. А куда же ему деваться, большинству? Довольно, что хоть как-то выживает и убивать перестали.
— Как это убивать?
— Как будто не знаешь, что только одних крестьян-мужиков работяг, истребили два миллиона. И чему теперь удивляться, что зерно на стороне закупаем, своего кормильца извели.
Тут поневоле станешь послушным и довольным. Вот что говорят мне сухие цифры, – закончил я свою исповедь.
— Конечно, это горько. Но ты же знаешь, что партия нашла в себе силы, развенчала культ и осудила эти действия.
— Большое спасибо! Потом-то можно и каяться: «Ах! Это всё Сталин. Так мы его давно из Мавзолея выкинули. И Берию расстреляли. Всё в порядке!» Только тут одного покаяния мало, надо бы по-честному: уйти в сторону и дело передать другим. Сейчас-то что лучше? Инакомыслящий в лучшем случае – диссидент, в худшем – психушка.
Посмотрел на Михаила Фёдоровича и сразу захлопнул рот. Вижу, мой молочный брат набычился. Выходит, что порция критики уже льётся через край чаши демократии. Всё.
— Честное слово, Пётр Сергеевич, ты как истеричная бабёнка на базаре. Надёргал фактов и заполошно орёшь: «Караул!» Всё, что ты здесь говорил про заграницу, я давно знаю. Ты про неё только читал, а я своими глазами видел Америку, Японию и Францию. Только я и другое знаю, вывали мы сейчас всю правду, дай власть тем, кто кричит, будет ещё хуже. Для этого надо много что в стране менять, и, не дай Бог, нам ещё одной революции. Не готовы мы к ней, не подошло время.
— Когда же оно наступит?
— Сперва надо покрепче встать на ноги и постепенно переходить к настоящей демократии, а начинать надо с многопартийности, в этом вся основа. Неужели ты думаешь, что я это не понимаю? Перемены будут обязательно, только не надо нового залпа «Авроры» и рушить все до основания. Повторись кошмар семнадцатого года, опять попятимся лет на сорок назад. Вот и выходит, что в двадцатом столетии в стране 80 лет уйдёт на разборки и топтание на месте, не говоря уже о человеческих жертвах. Не слишком ли дорогая цена?
Не ты один такой умный. Орать и делать, это не одно и тоже.
— Я же не призываю к революции.
— Не в этом дело. Я не глухой и не слепой. Знаю, что обо мне говорят в народе и за спиной свои же: и интересы края не отстаиваю, и за звезду Героя на съезде взял дополнительный план, оставил край без мяса, масла и колбасы, один хек на прилавках. Только вот никто толком не знает, что к чему. Застой. В отдельных областях детские дома, воинские части и тюрьмы кормить нечем. Уже были подготовлены дополнительные задания, так лучше уж добровольно отдать, чем край подымать на дыбы.
— Но зачем нам тащить этот хомут из соцлагеря с нахлебниками? Что мы всё время собачимся с капиталистами, почему не брать пример с того же Китая? Ну, хватит уже, перебесились с идеологией и давайте с ними работать, это же рыночники.
— Тут ты прав, но не так всё просто. Пойди резко на уступки, сочтут за слабость и сожрут твои рыночники. Китай – особая статья, он по географии среди азиатов, а на нас сразу навалятся соседи по Европе. Нам ли тягаться с их технологиями? У нас, кроме оборонки, всё на уровне первых пятилеток, а пусти их с инвестициями, дай только увязнуть коготку. А добреньким быть хорошо. Тебя и любят, вот только долго ли? Проели, растащили, а дальше что? Опять виновного искать и всё крушить?
Тут и я задумался. Оказывается, всё, что я ношу в своей мятежной душе, для таких, как он, не новость. Они по мере сил в этом бушующем житейском море хоть как-то правят на маяк и не дают затонуть кораблю. Тяжела ты, шапка Мономаха!
— Ладно, – говорит Михаил Фёдорович, – поговорили по душам и хватит. Вижу, тебе у нас работать сложно. Даже вредно. Надо тебе что-то подыскивать.
Я понимал, не будь я земляком и молочным братом, со мной бы не возились и вместо партийного билета выдали бы волчий. Стали искать работу. Обычно партийно закалённых с райкомов и крайкома ждало такое будущее:
— сильно идейно подкованные говоруны, обаятельные остроумные живчики оставались в партийных структурах и составляли костяк;
— деловые головастые мужики с хозяйственной жилкой направлялись руководить большими заводами, трестами, крупными совхозами и колхозами, вплоть до коммуналки и бытовки;
— говорунов без понятия и «без царя в голове» пристраивали начальниками отделов кадров. Там им самое место, лишь бы не вредили, толку от них всё равно никакого.
Я не вписывался ни в одну из этих категорий. Ну, куда меня? И всё же нашлось неплохое место, и я им доволен посейчас.
Однажды срочно зовут к Соркину. Захожу. Здороваюсь. Сидит и сразу видно, что очень доволен, руки потирает.
— Вот что, молочный брат, нашёл я тебе работу. Как раз такая, что и совесть твоя будет спокойна, и работа интересная. Твои любимые цифры. И обязан ты по роду своей работы, как на суде, говорить только правду и ничего, кроме правды.
Я, как ёжик, опять топорщу иголки.
— Нет у нас такой работы, чтоб без вранья, всё начистоту.
— А вот и есть! Идёшь в Управление статистики.
Я так и сел. Господи, а ведь верно, то, что надо.
А он встал и довольный ходит по кабинету, добивает меня.
— И ещё заметь, уже не ты, а мы тебя будем критиковать за очковтирательство и приписки. Понятно? Специально для тебя нашёл два интересных документа. На, выучи на память, – и подаёт мне две тоненькие брошюрки, – это вот Положение о госстатистике и отчётности. Обрати внимание на приписку: «За срывы отчётности в установленные сроки и её искажение виновные привлекаются к ответственности, вплоть до уголовной». А вот и сам Уголовный кодекс, смотри эту статью. Видишь? «От года до трёх лет лишения свободы». Ну, что скажешь?
Молчу. Только руками развожу и глупо улыбаюсь.
— То-то. Шагай. Умник какой нашёлся.
Мне бы, дураку, радоваться, но такой уж у меня сволочной характер: он мне такое добро сделал, сам за меня радуется, а я вместо «Спасибо!» опять всё изгадил. Как неблагодарный поросёнок. Уже и за ручку двери ухватился, да обернулся и брякнул:
— Большое спасибо за внимание и заботу, только все эти уголовные заморочки, которыми вы меня стращали, – липа.
— Как липа? Ну-ка, погоди, вернись. Давай разберёмся.
— Хотите на спор?
— Что за спор? Говори.
— Закон есть, статья есть, а наказанных у нас нет. Позвоните прокурору и спросите: за год в крае осудили хоть одного за искажение статистики?
Михаил Фёдорович аж побелел лицом от моей наглости. Хватает трубку и даёт поручение прокурору, а сам никак не успокоится, бегает по кабинету и прямо рычит:
— Сейчас! Подожди! Я тебя так раздраконю, что взвоешь. Умный какой выискался…
Звонит телефон, он хватает трубку, слушает и мрачнеет.
— Так… так. Ладно. За год нет, а за всю пятилетку? Что? Нет? А за время твоей работы? Тоже нет? А не знаешь, как в целом по стране?.. Да не может этого быть! Ну, вы, ребята, даёте.– Бросил трубку и обрушился на меня.
— Чего лыбишься? Радуешься? Зря радуешься, вот ты и будешь первый, кто сядет в тюрьму за искажение отчётности. И чтоб на глаза мне больше не показывался. Убью… – Да вдогонку ка-ак запустит непартийное народное слово.
9
Ага. Так и убил
Через полгода, когда я уже освоился в Управлении статистики, опять из деревни прикатила маманя. На третий день я уехал на работу, ругаюсь с замом по всяким мелочам (заканчивали монтаж вычислительного центра), звонит телефон. Слушаю. Кто-то ласково мурлычет в трубку: «Петруша… Петруша…» Батюшки! Да это же Елена Васильевна звонит. Здороваюсь и догадываюсь, что маманя уже сидит у неё. И точно, как в воду глядел.
— Приезжай, Петя, – просит Елена Васильевна, – чаю попьём.
Как быть? И отказаться неудобно, и ехать нельзя, дойдёт до коньяка, опять заявится молочный брат и, чего доброго, накостыляет по шее. Последнюю встречу я запомнил хорошо. Давай я дипломатично оказываться: мол, работа срочная, заеду, но чуть позже. Только вдруг слышу в трубке гудит знакомый голос:
— Ты что же так по-свински со старшими разговариваешь? Мои дела поважнее твоих и то я всё бросил, примчался, а ты, гляди, какой деловой.
— Михаил Фёдорович, здравствуйте. Вы же сами мне пригрозили, чтоб на глаза не показывался. Убить обещали.
— Гляди, какой пугливый стал. Давай так, одна нога там, а другая здесь.
Приезжаю. Скребусь в дверь. Открывается. На пороге стоит Михаил Фёдорович. Вижу, опять в носках, без галстука. И улыбается. Обнял, по спине хлопает.
— Здорово, молочный брат. Очень рад тебя видеть!
10
Вот, собственно, и всё, ребята, о моём хождении во власть. Всех тонкостей я, конечно, знать не могу, но одно могу утверждать точно – не надо всех мазать одной краской.
Кто-то предложил тост:
— Выпьем за то, чтоб нам не ошибиться в нашем кандидате!
Контрольный полёт
(О традициях и перегрузках)
Ну на фига мне, граждане, такой аэроклуб?
М. Танич
Живут у нас в деревне Назаровы и есть у них сын Евгений Петрович. Это он сейчас Евгений Петрович, а когда был мальчишкой, то был просто Женька и всё мечтал стать лётчиком. Парнишка был смышлёный и настырный, поступил в лётное училище и закончил его с отличием. Потом летал на разных типах самолётов, был у него свой Афганистан и «горячие точки». Казалось бы, в мирное для страны время, а у него был госпиталь, отметины-шрамы и золотая звезда Героя, а её зря не дают.
Каждое лето наведывался в отпуск, подарками заваливал. Когда заявился со звездой Героя, а приехал он после госпиталя, то ждала вся деревня. Даже районное начальство и корреспондент областной газеты. Герой! Перед этим про него на всю страну говорили и в газетах пропечатали, кто такой и откуда.
Его ждут около райкома с цветами, с музыкой, а он прямиком в свою деревню, домой. Тем, что делать? Вся районная ватага за ним следом, а тут конфуз! Стабунилось около Назаровых с десяток машин, все новёхонькие, блестят, сверкают, представители разодетые, в толстых галстуках, с цветами, а супротив их стоит назаровская развалюха, как гадкий утёнок. И даже не верится, что в такой мог родиться Герой. Ну, допустим, мог родиться, а вот как проглядели, что старики-родители Героя, труженики-колхозники, живут в скособоченной хибарке?
Ни словом он их не попрекнул, зато, кому надо, сделали выводы и к следующему приезду у Назаровых вместо развалюхи стоял красавец дом.
Приезжал Евгений Петрович часто и всё потому, что женился на Маше Казанцевой, своей же однокласснице, и выходило, что у них наша Покровка – единая малая родина. А это многого стоит. Тут грянула перестройка, в армии – сокращение, тех, кто вылетал свои часы и года, кого – в запас, кого – на пенсию. И вот заявился Евгений Петрович в звании полковника с Машей домой. Глянется им наша деревня, оно и понятно, как ни сытно на чужбине, а родина как магнит. Пусть это даже неказистая деревушка, пусть кривые улочки и зимой их заметает так, что не пройти, не проехать. А всё же здесь милее, чем в городе.
Свою городскую квартиру оставили детям, а сами навсегда обосновались в деревне. Евгений Петрович днями пропадал с удочками на Кулунде, ходил на охоту, а то вместе с Машей шастал по бору и собирал грибы. Без дела сидеть не любил, всё что-то копошился, что-то ремонтировал. Хорошо разбирался в часах и телевизорах. Ведь всю жизнь с такой техникой и электроникой! Это у него было как хобби, всю деревню выручал с ремонтом и всё бесплатно, за «спасибо». Разве что заставит купить какую детальку.
И вот – весна. Приходит к ним председатель колхоза Иван Николаевич, он ещё Маше малость сродни приходится. Мужик – весь в заботах, такая горячая пора наступила. Пришёл по делу.
— Евгений Петрович, выручай!
— Что такое?
— У нас с посевной запарка, а тут ещё надо колхозникам огороды пахать. Не успеваем. Мишка Лосев попал в больницу с аппендицитом, а в два трактора не управимся. Поработай на Мишкином тракторе, ну вот как надо! – и горло пилит ребром ладони.
Растерялся Евгений Петрович.
— Да я как ещё в школе на уроках вождения сидел в тракторе, так уже всё и перезабыл, не знаю, где какая скорость.
— Ой, Господи! На МИГах летал, на СУ-27 летал, а на колёсном тракторишке не сможешь? Не смеши.
Тут и Маша встряла:
— Жень, ну что ты ломаешься? Помоги мужикам, заодно и себе огород вспашешь.
— А что? – Оживился Евгений Петрович. – Давай попробуем!
Огороды пахали в три трактора. Трактористов он хорошо знал, ещё в школе вместе учились, только теперь это были мужики уже в годах. Встретили его приветливо, балагурили:
— Это тебе не сверхзвуковой истребитель, тут техника посложней. Запомни, из полковников ты теперь разжалован в рядовые, теперь ты «салага», а мы «деды». Что такое дедовщина, сам знаешь, чуть что и схлопочешь! – Понятное дело, шуткуют. – Запомни, сегодня у тебя будет контрольный полёт.
— Дорогие «деды». Сперва «салагу» научите пахать.
Показали, что и как. Дело и, правда, не мудрёное, надо только чуть-чуть сноровки, глазомера и всё. Пашут огороды подряд: и где они попрямее, без лоскутков, те отдают ему, пусть руку набивает. Пошло дело, но тут беда. И беда вот в чём.
Вспашут огород и сразу крестьянское подворье преображается. То оно напоминает свалку: тут клочья соломы, перья, сор, комки разбросанного коровяка, прошлогодние лунки, грядки и вдруг – чёрный, чистый и ровно забороненный участок! В деревне хороший огород для хозяина – это же кормилец. Тут душа поёт от радости, и чтоб был хороший урожай, пахарей волокут в дом. Отблагодарить. Так с испокон веков повелось.
Мужики не отказываются, идут. Хватят по стопке и дальше, а Евгений Петрович не пьёт. Не может. Тем более техника, а он не привык. У них в авиации было строго: за три дня до полётов ни капли спиртного, каждый день медосмотр. Там шутки плохи, только представь, под тобою десять километров пустоты и случись что, помочь некому, надо чтоб голова была светлая и кумекала.
Видит, мужики на него косоротятся, вроде как брезгует их дружбой и традициями, а может, и выслуживается, а это в деревне не любят. Чтоб их не обижать, начал сперва по глоточку за «кумпанию», потом по полстакана, а потом и по полному. Мужики повеселели, что ты! Женька свой в доску. Балагурят с хозяевами:
— Гордитесь! Вы знаете, кто вам огород пахал? Полковник, Герой! Лётчик первого класса, на сверхзвуковых летал, пил только коньяки, ром и виски, а теперь с нами пашет огороды и запросто хлещет эту косорыловку. Это у него как контрольный полёт, и картошка у вас уродит величиной с авиабомбу!
Ну, в общем к концу дня, как бы вам помягче сказать, то ли привели, то ли принесли домой Евгения Петровича, лётчика первого класса, с этого контрольного полёта. Маша так и ахнула. Господи! Да за всю жизнь видит она в первый раз эту лежащую и мычащую недвижимость. И это её родной Женечка? А ведь понимает, что сама благословила на этот подвиг, все деревенские традиции знала наперёд. Сама и виновата.
На другой день. Утро. Бригада колхоза. Мужики, что огороды пашут, уже заправили трактора, курят и поджидают его. Сами как огурчики. Наконец появляется Евгений Петрович. Сам бледный, как из Бухенвальда. Глаза дикие и двигается, как лунатик под наркозом. Бригадир Николай Иванович спрашивает у него:
— Евгений Петрович, а почему вы не заправляетесь?
— Трактора нет.
— А где же ваш трактор?
— Сам удивляюсь! – Вот что значит без привычки. – Может, вы меня отпустите с миром, а? Я был испытателем, выдерживал семикратные перегрузки, два раза меня сбивали в Афгане и хоть бы что. А тут, каких-то десять огородов вспахал и не выдержал. Память отшибло начисто и по мне, как на телеге проехали, всё болит. Тут жуткие перегрузки
— Это ничего, – говорит Николай Иванович и смеётся, – через это тоже надо пройти. Сельское хозяйство – это будет посложней армии. Я тебя научу. Не робей.
Нашли его трактор, заправили, и весь сезон он отпахал молодцом. Даже втянулся в дело и потом помогал мужикам в бригаде заканчивать сев.
— Главное, – говорит, – я вижу свой результат. Вспахал – засеял, а осенью – вот оно зерно! Золотое! Смолол на мельнице и вот он, хлебушко на столе. Это же чудо, что делает мужик на земле! А что в авиации? Там как раз всё наоборот. Трахнул бомбой или ракетой и только клочья земли летят, и всё в огне. То, что люди сеют, строят, мы гробим. И чем точнее и больше гробим, тем выше класс лётчика. Парадокс! Что делают люди.
— Но и это надо, – говорят ему, – если некому будет защищать страну, то пахать и сеять будешь на чужого дядю.
— Всё я это понимаю, только сеять мне больше по душе. Эх, поздно я хватился. Всё-таки во мне больше крестьянских генов от родителей.
А мужикам всё потеха. Конечно, гордились, что с ними работает такой геройский земляк, только, нет-нет, да и выкинут с ним какую штуку.
Приехала как-то в бригаду корреспондентка с областной газеты, молодая симпатичная бабёнка в брюках. Ищет материал поинтересней. Ей мужики и присоветовали:
— Видите того тракториста со шрамом на лице и наколкой в виде самолёта? Вы к нему приглядитесь, чем не материал? Только подумайте, бывший вор в законе, пятнадцать лет зону топтал, а прибился к нам в село. Женился на Маше Казанцевой и бросил воровское ремесло, пробует честно трудиться. Это же типичный шукшинский Егор Прокудин. Весь в шрамах, наколках, но пробует работать.
Корреспондентка ухватилась за эту тему, это же социальный вопрос, тем более в Госдуме дебатируют вопрос по амнистии заключённых и многие боятся. А вот он из зоны и как трудится!
Евгений Иванович как раз ремонтировал трактор, так она ему работать не давала, всё мучила разными вопросами. Потом вдруг на всех обиделась и уехала.
Другой случай был, когда приехал главный инженер из сельхозуправления. Этого больше интересовали вопросы эксплуатации тракторного парка и техническая подготовка кадров. И его направили к Евгению Петровичу.
— Это по вашей части, – говорят, – вы растолкуйте вон тому долбаку кое-что. Всю жизнь проработал конюхом, этой зимой закончил курсы трактористов, так-то работает вроде не плохо, но мужик с заскоками и без фантазии. Что такое мощность двигателя трактора понимает, лошадиные силы представляет, столько лет при конюшне, а вот сам принцип работы двигателя внутреннего сгорания, хоть убей, не может представить. Практически работает, а теоретически не верит, что поршни в цилиндрах так быстро мельтешат. У него в голове это не укладывается.
И главный инженер тоже долго беседовал с Евгением Петровичем, потом погрозил мужикам кулаком и уехал злой-презлой.
Вся бригада потешалась, а Евгений Петрович не обижался на это, только незлобно корил мужиков:
— Вы бы, черти, хоть меня предупреждали. А то приходит эта корреспондентка и ни с того, ни с сего: «Скажите, а как сейчас в тюрьмах кормят?» Батюшки, я-то откуда знаю? С другого бока заходит: «Скажите, а правда, что вор в законе не должен работать? Как вы думаете насчёт амнистии? Не перережут ли урки всех?» И дальше вопросы в том же духе и так жалобно на меня смотрит, как будто хочет подать копеечку.
А вот инженер поначалу всё пытал, какие жеребцы лучше, орловские или ахалтекинские. Потом долго буровил про двигатель внутреннего сгорания. Ну, дурдом. Никак не пойму, что он хочет. Говорю ему:
— Мужик, тебе что от меня надо?
— Надо, чтоб ты осознал и понял принцип работы четырёхтактного цикла у двигателя внутреннего сгорания.
— Зачем? Я отлично знаю принцип работы реактивного двигателя и сам лично принимал участие в испытаниях его новых модификаций на самолёте-истребителе МИГ-26 и три года отлетал на СУ-27. Теперь ты мне скажи, ну зачем ты мне толкуешь про каких-то жеребцов и четыре такта. Это для авиации вчерашний день. Ты сам-то в электронике кумекаешь?
— Так вы тот самый Назаров и есть? Вот, черти, надо же, как разыграли. Вы уж меня простите.
Шутки-шутками, а работа у механизаторов тяжёлая, особенно в посевную. Пылища такая, что, как ни кутайся, всё равно не продохнуть, а они не унывают. Да и зимой не легче.
Работал Евгений Петрович не из-за денег, пенсия у него, дай Бог каждому. Если в колхозе запарка с посевной или уборочной, так и зовут его. Он каждый год работал на комбайне. Работал ради удовольствия, как замаливал грехи за то, что подался от земли-кормилицы на вольные хлеба в небо.
А знаете, что присоветовал ему бригадир Николай Иванович чтобы и от коллектива не отбиваться и всегда быть трезвым? Ни за что не догадаетесь. Он наказал ему брать с собой две грелки. Да-да! Обыкновенные грелки. Когда хозяева огородов по традиции их угощали, а у нас угощают всегда, он извинялся и говорил:
— Я после самолёта сразу не могу привыкнуть к малым дозам. Чтобы вас не обидеть, вы не будете возражать, если я свою норму в грелку вылью, а уж потом дерябну. Я – алкаш-одиночка, ночью один под одеялом дудоню. Эта вспашка для меня, как контрольный полёт, а грелки, как контрольный замер.
Мужики и хозяева смеялись от души, а у него строго – в одну грелку сливает самогонку, в другую – водку. Понимали, что он шутит, но понимали и другое, что-то тут не так. Не такой человек Евгений Петрович, чтобы сливать стопки и пить тайком в одиночку. Если уж часы и телевизоры ремонтирует бесплатно, то станет ли крохоборничать с сивухой?
А мужики посмеивались: уж они-то знали, что к чему. После работы он в бригаде отдавал на общий круг «контрольный сбор».
Он и сейчас живёт у нас в Покровке и всегда помогает колхозу, не кичится, что Герой. Говорит, что он прирождённый землепашец, а в небе заплутал по недомыслию. Поэтому-то у него и накопился долг перед родной землёй. А долги надо платить.
С германского боя шли два героя
(Рецидив из сорок пятого)
Оптимисты и пессимисты расходятся в одном – в точной дате конца света.
Приписывают А. Чубайсу
Сразу скажем, история эта некрасивая, но истина дороже.
В прекрасное июльское утро, когда только подоили коров и только прошёл табун, тут и началась эта жуткая история. Сперва к Полозковым наведалась соседка Лиза Донина, вызвала из дому Катерину, что-то долго ей объясняла, размахивала руками, делала большие глаза и ахала. Катерина с изумлением слушала её, потом вскрикнула, как от удара, и запричитала:
— Да не может быть! Да ты что? От змей!
Когда Лиза ушла, тут она, как взбесилась, и разбушевалась. Нет, вы только представьте, баба начала бить мужика! И кого? И как? Била люто, чем попало. Безногий Степан Егорыч, даже не успел пристегнуть новый протез и в трусах грузно скакал по комнате на одной ноге, как подбитый гусак, и всё норовил увернуться от скалки, ухвата и поленьев. И всё уговаривал супругу:
— Катя! Катюша! Да успокойся ты! Ну, перестань! Всё брешут. Совсем не так было. Ой-ё-ё! Больно же! Сладила с калекой…
Катерина до пенсии работала в колхозной стройбригаде и поэтому свободно владела народным строительным языком и сейчас, гоняясь по двору за мужем, крыла его на чём свет стоит.
— Калека?! – И аж задохнулась от ярости. – Вот сейчас (трам-тарарам) я из тебя действительно сделаю калеку (трам-тарарам!», Герой войны! Убью подлюку! Дня с тобой жить не буду. Сейчас же позвоню Борису. Убью-у!
И убила бы, да помешали соседи. После этого Степан Егорыч месяц не показывался на люди. Сын Борис, доктор наук, сразу бросил кафедру и примчался на «Волге» из самого Нового Сибирска и тоже строжился над отцом:
— Тятя, ну как же так можно? Стыд-то какой! Может, вам денег не хватает? Тогда скажи, сколько надо, и я теперь буду присылать больше. Сколько надо? На, пожалуйста. Но так… Я просто не понимаю. О, Господи!
Что же случилось? И как это жена может так измываться над бывшим членом партии, фронтовиком, безногим инвалидом? Да ещё чтоб родной сын строжился над отцом?
Могут. Тут особый случай.
***
В Покровке жили два безногих инвалида – Илья Никитич Малышев и нам уже знакомый Степан Егорыч. Илья Малышев был на фронте танкистом, и ему после Курского побоища оттяпали правую ногу ниже колена. Степан Егорыч был моряком-десантником, под Одессой уцелел чудом, но и ему отхватили ногу, но только левую и чуть выше колена.
Илья Никитич был худощав, подвижный, чёрные кудри волной, отчаянный балагур и его даже как-то неловко было называть по имени отчеству. При своей одноногости он имел успех у баб. А как он играл на гармошке и пел! Артист, да и только, соловьём заливался. Жил легко, ему всё было понятно, одним словом, оптимист. Даже сам себе мастерил протез. Честное слово. Берёт кругляш, обстрогает, с боков изладит что-то наподобие щитков, в щель – колено, вот и всё. Понятно, к низу морковкой обстругает, заострит, и вот она вся система движения. Вприпрыжку и прихрамывал всю жизнь.
Степан Егорыч был посолидней, покорпусней телом. И протез у него был посолидней, алюминиевый, с раструбом кверху, а книзу труба ощеривалась чертячьим копытцем. Илья был шорником, но потом, как он сам говорил, пошёл на повышение, стал работать в быткомбинате сапожником. Степан Егорыч, как знающий цифру, одно время работал в сельсовете счетоводом, потом – в колхозной бригаде учётчиком, всё подсчитывал центнеры и гектары. Жил осторожно, часто сомневался и за всю свою жизнь ни разу не сделал глупости.
Подошла пенсия и выровняла их. А тут вот она, перестройка. Президенты. Выборы. Депутаты. На волне президентской предвыборной ласки, когда «охватывали заботой» фронтовиков, им обоим приходит бумага, где прямо так и сказано, что хватит жить как попало. Получите новые протезы-самоходы, последнее слово науки в ортопедии. Причём, бесплатно.
Поехали в город. И всё у них так ладно обернулось и главное – без обмана. Вот они новые современные протезы, не трубы или деревяшки, а настоящие ноги. Кожаные, телесного цвета, просто одно загляденье. Идёшь, а они сами в коленках гнутся и тебя не отличить от обычного двуногого. Но была одна заморочка: пока идёт примерка и подгонка, дня три надо подождать.
Илюха, змей, и говорит:
— Стяпан, зачем нам зря тратиться на гостиницу? У меня здесь есть зазноба, Варвара Князева. Поедем к ней, я часто, как в город приезжаю, у неё останавливаюсь. Живёт одна, дети где-то на Севере работают. Едем.
Ну и поехали. Варька была уже в годах, но баба добрая и ручная. Встретила их как родных и страсть как обрадовалась Илюшке. Как дорогого друга дождалась, всё воркует голубкой, обхаживает: «Илюшенька, Илюшенька…»
Так и жили у неё, пока не получили протезы. Им бы надо сразу же домой, но на грех у неё оказалась гармошка, и решили они закатить прощальный вечер, так как твёрдо встали на ноги и никто уже не подозревает, что они безногие. Решено-сделано. Илюша начал набирать обороты, да такие, что у подъезда собралась толпа.
Сперва гуляли одни, потом душа развернулась, Илья кричит:
— Стяпан! В кои-то века выпало в городе погулять, так давай на всю катушку! Чтоб чертям стало тошно!
И погуляли. Появились какие-то гости, тоже люди добрые и хорошие, только без денег. Зато у наших протезников их навалом. Ох и гуляли! Илья с Варварой исполняли «на бис» коронный номер грешной молодости, вот где была умора.
Из-за оригинальности текста его стоит привести дословно. Сперва Илья делал звонкий проигрыш «Кубанскими казаками» и начинал на мотив «Каким ты был, таким ты и остался»:
Восьмое марта близко-близко,
А сердце бьётся, как олень.
Не подведи меня, моя пиписька,
В Международный женский день!
Дальше вступала Варвара, кокетливо подёргивала тощими плечиками и пела на мотив «Ромашки спрятались, поникли лютики», тоненько выводила:
Сняла решительно бюстгальтер, трусики,
Казаться гордою не стало сил.
А он достал его, такой малюсенький,
На что надеялся, зачем просил?
Пели они и другое, с крепкими словами. Гости аж визжали и хрюкали от восторга. Это был вечер воспоминаний бурной молодости и со стороны выглядело диковато. Ну, если б ещё были молоденькие, а то уже старики – и туда же. А что сделаешь? Жизнь такая, какая она и есть.
Прощальный вечер удался на славу. И пели, и плясали, и пили. И как пили, по-гусарски! Ох, и гульнули. Утром проснулся Степан Егорыч и не поймёт, где он. Лежит на голом полу и укрыт половиком, а вместо подушки сетка с картошкой. Илья спит, сидя на полу, а кудрявая его башка на журнальном столике, среди тарелок, объедков и окурков. Варька храпит в другой комнате, гостей нет. Денег тоже.
Гульнули. Как же теперь до дома добираться? Варька всё же исхитрилась и похмелила какой-то брагой. Поехали на вокзал, думают, как фронтовиков не должны бы выкинуть с поезда без билетов. Степан Егорыч страшно переживал и сомневался. Был уверен, что скинут с поезда. Зато Илюхе было всё ясно и понятно – доедут. Стал предлагать план:
— Стяпан, а чё мы горюем? Пройдём по вагонам, попросим у людей, неужели не помогут? Вспомним сорок пятый год. Эх, жаль, гармошки нет, я бы дал представление.
Конечно, Степан Егорович помнил то послевоенное время, этих слепых, калек, инвалидов-гармонистов, что пели на базарах, площадях и по вагонам. Они рассказывали о беде, что случилась со страной, и как искалечила их судьбу. Исполнение было самое обычное, простое и бесхитростное, но вызывало сострадание и участие. Им помогали кто чем мог.
Не все «слепые» были слепыми, да и увечные иной раз лукавили. В одном поезде набиралось иногда две-три «концертные бригады» и ждали своей очереди. «Слепые» снимали тёмные очки и считали деньги, «безногие» вставали с тележек и разминали затёкшие ноги. Считалось хорошим тоном войти под «Раскинулось море широко!», это было визитной карточкой.
Потом вся эта «жалистная» самодеятельность враз исчезла. Кого определили по госпиталям, кого – в Дома инвалидов, многих трудоустроили, заставляли учиться и потом работать. Но ещё долго, нет-нет, да и услышишь по вагонам всхлипывание гармошки и «жалистные» песни.
Милиция их отлавливала, но многим поездная жизнь нравилась больше, чем режимный Дом инвалидов. Однажды ему пришлось побывать в одном таком Доме и увидеть человеческое горе, да такое, что может присниться только в страшном сне. В отдельных палатах лежали в общем-то «здоровые» фронтовики, они не болели, только были… без рук и без ног. Как сутунки. Нет, их государство не бросило, наоборот, за ними очень хорошо ухаживали, кормили, поили, а они здоровые, от избытка крови и сил…, ждали смерти.
По праздникам их одевали в форму танкистов, лётчиков, моряков, на груди – боевые ордена. Были даже золотые звёзды Героев, но как же их обидела злодейка судьба. Нередко с кем-нибудь случался нервный срыв, истерика. Это когда здоровый, молодой и красивый парень, рождённый жить полной жизнью, пахать, любить, иметь жену и детей, заходился в крике, бился и исходил пеной. Просил, как милостыню: «Да сделайте же что-нибудь, чтоб умереть! Неужели у вас нет хоть капли жалости?!»
Причём, многие просили сознательно, чтобы не мучиться, не видеть это сострадание и свою беспомощность. Каждому казалось нелепым и несправедливым свыше, почему именно его так и на всю катушку? За что? Уж лучше бы сразу насмерть!
Встречались, конечно, люди и сильные духом, которые не только сердцем, но и умом понимали своё положение. У многих были жёны и дети, но они сами сознательно освободили их от этой страшной опеки. А этот подвиг был поважней, чем броситься под танк со связкой гранат.
Кто поймёт её, эту загадочную русскую душу? Сам помнит, если встречались моряки и танкисты или лётчики с пехотой, то обязательно драка. Не брал мир, дрались в кровь. «Братва! Наших бьют!» Не случайно воинские эшелоны при переброске специально старались поставить так, чтоб разные рода войск не встречались. И тут же, через неделю-другую, в бою выручали друг друга, порой жертвуя собственной жизнью. И не смотрели, кто ты – моряк или танкист. Ты свой! Наш! Русский!
Всё это, конечно, грустно, да и давно такое было, полвека назад, теперь, наверно, таких Домов и нет. Где-то читал, что фронтовиков осталось в живых около двух процентов, это кто был помоложе и покрепче, а что говорить про раненых и увечных?
Теперь вот у них с Илюхой своя беда, по собственной же дурости, и надо как-то выруливать, добираться домой. Как только Илюха предложил «хождение в сорок пятый», Степан Егорыч поначалу обалдел. Было даже жутко подумать, зато Илья всё это говорил всерьёз. Дело в том, что он в своё время полгода «гастролировал» с гармошкой по вагонам. Ну, так получилось по молодости и с отчаяния. Давно это было, и ни одна живая душа об этом не знала, даже жена. А тут как сбесился, прямо наседает.
— Ты что, – лепечет Степан Егорыч, – хочешь по вагонам побираться?
— А чё? Кто тут нас знает? Сейчас полстраны ворует, а другая половина побирается, даже в Москве в переходах метро просят милостыню, а уж нам простительно – мы от нужды. Давай. Всё закручиваю я, а ты только помогай.
— Да ты, Илья, сошёл с ума. Мы что, бомжи?. У меня пенсия больше чем у всех… я бывший член партии… сын у меня доктор наук, в Академгородке, а я по вагонам с протянутой рукой?
— Дурак ты, Стяпан, хоть и бывший член партии. Мы же это шутейно. Ну, соберём на билет, пожрать и чтоб хватило на автобус. Всё. И потом, мы же не за бесплатно просить будем. Тут совсем другое дело. Мы петь будем.
— Что-о? Петь? – Выпучил глаза Степан Егорыч. – Петь? Я?
— Чё ты сразу орать и в омморок? Вот невидаль, петь. Если хочешь знать, я в сорок пятом… – и всё выложил про свой «поездной концертный стаж».
Долго спорили. Конечно, на трезвую голову и в другое время он даже и думать об этом не стал, а тут как чёрт под руку ширяет и шепчет: «Ну, хоть раз в жизни отчебучь что-нибудь. Ну же, смелей!» А тут ещё этот змей, Илюха, подзуживает:
— Ну и что? Похохмим, хоть будет что вспомнить Не заарестуют же? И кого бояться? Мавроди ограбил стариков, банкиры и власть всё по себе растащили. Гаишники у шоферни деньги открытым текстом вымогают. Жрать-то все хотят.
И так его уболтал, что он, как под гипнозом, уже хромает в голову состава электрички. Илья командует. Разболоклись, новые протезы сняли, одели старые и закатили штанины, чтобы видать деревяшку у Ильи и трубу, с резиновым пятаком у Степана Егорыча. Привели себя в затрапезный вид. Это для психиатрии, бить на жалость – увечные страдальцы! Ещё упросили какую-то бабку посторожить их манатки, пообещали ей заплатить с гонорара и подались в хвост состава.
Только поезд тронулся, Илья одел чёрные очки и подражая слепому, шарком двинулся на коммерческий подвиг. Он был прирождённый артист, ну вылитый слепой! Отрешённо смотрел в пустоту, ощупывал-шарил перед собой, подпрыгивал на деревянной культе и выстраданным голосом запел. И как! И главное, что! Без музыки, одним голосом, что он делал!
Ввиду оригинальности текста, который является образцом исчезнувшего фольклора поездного попрошайничества прошлого, приведём его потомкам целиком. Пел он на мотив «В воскресенье мать старушка к воротам тюрьмы пришла». Петь он мог. Голос сильный и приятный. Ой, как же он пел!
Пошёл на фронт я добровольцем,
Чтоб нашу землю защищать!
И во первых боях кровавых
Я своё зренье потерял!
С песни Илья перешёл на речитатив и по неписанной традиции всех попрошаек скороговоркой, чуть гундося стал взывать к милосердию. Побуждая к действию, тряс кепкой. И снова пел:
И быть может, у вас, граждáне,
Сердце тронется в груди.
И кто может, пусть поможет,
Чтоб калеке мне прожить.
И не поверите! Несмотря на то, что песня была до дикости примитивна своим размером, рифмой, а слогом вообще ужасала, но она к удивлению всех давала новизну ощущений. Пожилые вспоминали что-то старое, давно забытое, молодым такой «рэп» был в диковинку. Что-то вроде протеста приевшемуся изысканному эстрадному слогу и мелодии с подпевкой и подтанцовкой. А нахальная наглость самого певца с кепкой даже приятно шокировала. Какой-то мордастый малый незлобно хохотнул и обратился к приятелю:
— Ну, бляха-муха, и сервис! Прямо Майкл Джексон! – И хоть говорил с насмешкой, а в кепку Илюхе сыпанул порядком.
И вообще народ не скупился. Хороший у нас народ. Какая-то бабка даже всплакнула, другая горько вздохнула.
— Бедненький! Мало того что без ноги, так ещё и слепой.
Только какой-то рыжий парнишка, видать, бестолковый второгодник, всё допытывался у матери:
— Ма-а, ну, ма-а, он чё, слепой? Если слепой, тогда как он так ловко кепкой денежки ловит?
— Молчи, сынок, это не от хорошей жизни.
Но это мелочь. В общем-то дебют удался. В тамбуре его ждал Степан Егорыч. Когда подсчитали «подаяние», то так и ахнули, почти половина Илюхиной пенсии! Ну и дела.
— Теперь давай вдарим на два голоса, – наседает Илюха, – не могу же я один работать и тебя тунеядца содержать. Помогай. Что ты ломаешься? Ты же теперь беспартейный.
Степан Егорыч начал опять молоть про свою богатую пенсию и сына, доктора наук, но Илья перебил. Умеют же некоторые люди убеждать и так морочить голову, что чёрное кажется белым и наоборот. То ли гипноз какой?
— Слушай, Стяпан. Это же наша с тобой последняя шутка на этом белом свете. А дальше, всё! Два-три года и зашамкаем на завалинке: «А помнишь? Вот было!» А что у тебя было? Только жрал, а чтоб стопку с бани, так твоя Катька удавится. Что ты, изъян! Время, Стёпа, уходит. Чудить, так чудить.
И Степан Егорыч не устоял.
Вагоны дёргались, качало, идти было трудно… Изумлённые пассажиры были поражены. Кажется, всё видели, но такого! Из тамбура в вагон ввалилось и двигалось что-то паукообразное, о двух ногах, о двух головах зато о четырёх руках. Двумя они держали друг друга в обнимку, как сиамские близнецы, а двумя другими по обезьяньи цеплялись за поручни, подпрыгивали на протезах и в то же время «несли искусство в массы».
Репертуаром заведовал Илья. Он уже был без тёмных очков, так как прозрел, и вовсю тряс стариной. Он запевал, а следом гудел Степан Егорыч, бывший член КПСС. Сперва пели утёсовскую, полублатную «С одесского кичмана бежали два уркана», разумеется, на новые слова «поездных бригад» сорок пятого:
С германского боя шли два героя,
С германского боя домой!..
Начало пели вместе, а потом как в опере, по очереди. Да так же хорошо! Илья прямо рыдал соловьём, жаловался «другу».
Товарищ, товарищ, болят мои раны,
Болят мои раны тяжело.
Одна заживает, другая загнивает,
А третия смерть мине несёт.
Вступал Степан Егорыч, он тоже страдал и как мог успокаивал «героя», клялся не бросить его:
Клянусь я товарищ, в сырую могилу
Зарою твоё тело глыбоко…
В следующем вагоне «на ура» приняли матросскую «Бескозырку», тем более «певцы» были по-стариковски в тельняшках:
Семнадцать ранений хирург насчитал,
Две пули засели глубоко.
А он всё лежал и в бреду напевал:
«Раскинулось море широко…»
Что за песня! Бабы плакали навзрыд, честное слово.
Надо сказать, что среди пения Илья, как Якубович в «Поле чудес», умело устраивал рекламно-коммерческие паузы и смиренно взывал к пассажирам-слушателям:
— Граждане-товарищи-господа! Подайте, кто, сколько может, не ради нашего пения, а ради нашего несчастного положения. Эта чёртова перестройка доконала стариков! Все сбережения, что копили «на чёрный день» и на смерть, правительство отобрало! Эти Иуды горбачёвы, ельцины, чубайсы и березовские разорили Россию. Пенсии плотят не вовремя, да и какие эти пенсии? Помогите! Голодаем! Три дня ни ели!
Про три дня голода он зря ляпнул. Какая-то бабка жалостливо спросила:
— Дедушка, а ты продуктами берёшь? – И сунула ему в кепку пару яичек, пучок лука и кусок хлеба.
— Берём, – спохватился Илюха, – но лучше деньгами, можно и крупными.
Какой-то парень нагло сострил на весь вагон: (Ну и змей!)
— Во старпёры дают! Ну, чернявый матрос с помятой шайбой ещё тянет на дохляка, но у второго такая репа, что её с похмелья за три дня не об… (обкакать) Неужели и он три дня голодал?
Весь вагон хохотал. Вот черти, у людей горе, а они ржут. Весёлый у нас народ! Сами смеются, а в кепку Илье сыпят.
Так они прошли вдоль всего состава, а когда опамятовались от творческого азарта, а свою станцию – давным-давно проехали! Старушка, что стерегла их манатки, уже стала беспокоиться, но они с ней рассчитались полусоткой и она успокоилась.
Илюха был на подъёме, только руки потирал и похохатывал. Да и Степан Егорыч успокоился: всё уже позади, а с деньгами им сам чёрт не брат. Умылись, привели себя в порядок, пристегнули новые протезы и сошли на первой же станции. Купили билеты на встречный поезд, ехали в вагоне-ресторане, попивали винцо и от души смеялись. И не поверите, как-то даже помолодели от того, что встряхнулись и «сходили в сорок пятый».
— Три дня голодали! – Заливался Илюха. – И как я сплоховал!
— Эту голодную «репу» за три дня не обос… – хохотал Степан Егорыч от души. И действительно, такого наслаждения он не испытывал ни от премий, ни от наград и даже когда от района был делегатом областной партийной конференции. Во как.
На автобус опоздали, только это их не волновало. Наплевать. Наняли частника и домой заявились уже потемну. За эти бурные дни на асфальте по деревне даже соскучились. Илья честно разделил остатки «гастрольных» денег и подались по домам.
Катерина сперва наладилась его пилить: что так припозднился и почему такой весёлый? С чего бы это? А он её разом и успокоил. Как вывалил комок денег, так она и прикусила язык.
— Стёп, а чё это денег у тебя больше, чем я в дорогу давала?
— Ну, мать, тебе не угодишь! Что я, или ханыга какой? Военкомат всё организовал. Дорогу оплатил и поил, и кормил, даже по домам развёз. Так велел президент. Понимать надо, кто мы.
А утром эта сатана, соседка Лиза Донина, и заявилась. Она, сволочь, оказывается, ехала в этой электричке и видела, как «шли два героя с германского боя». Ей бы промолчать, да попробуй бабе удержать в себе такую радость.
Зато у Илюхи вся эта история дома обошлась без драмы, он всё свёл на шутку. Жена долго смеялась, а на вырученные деньги купили внуку куртку и ещё в в колхозе дроблёнки для поросят. На год хватит. Без крика обошлось ещё может и потому, что сам Илюха не был членом партии, да и дети его – не доктора наук, а работают в колхозе.
В Совете ветеранов тоже прознали про «хождение в сорок пятый год», грозились обсудить на собрании, чтоб не позорили фронтовиков. Только вдруг читают в областной газете, а там – чёрным по белому: «Ввиду отсутствия средств для финансирования расходов на газ прекратить его подачу на центральный мемориал и мемориал боевой Славы у памятника погибшим воинам – интернационалистам до особого распоряжения».
Уж если хватило совести погасить самое святое, Вечный огонь, значит, вечность распалась, и в нашей жизни происходит что-то непонятное, а грех «артистов с электрички» – это детская шалость. Обошлось.
Конечно, не от хорошей жизни пришлось гасить Вечный огонь, святой символ боевой Славы. Потом спохватились, вмешался областной Совет ветеранов и всё встало на свои места.
Будем здоровы
(Рассказ старого партийца)
Водка – враг народа, но наш народ врагов не боится.
В. Колесников.
Давно это было, перед самой волей, а вот как сейчас помню. Вышел указ по борьбе с пьянкой. Алкогольная революция, о которой так долго говорили большевики, свершилась в одночасье.
Мало погодя партийное начальство видит, что указ пробуксовывает, а главное – получается обратный результат: пить стали больше, все как посбесились. В чём тут дело?
А всё очень просто. Как только узнали, что на этот раз новая забота партии о народе идёт через борьбу с пьянкой, то поняли – это не к добру и первым делом смели с прилавков всё хмельное, вплоть до тройного одеколона и аптечных настоек. Сахар и дрожжи, это особая статья, их тащили мешками и ящиками.
Но партия – это вам не петух, что прокукарекал, а там хоть не рассветай. У них всё на контроле, ждите проверку. У власти тогда стояли люди проворные, хотят показать, что хлеб не зря едят, а потому каждый норовит отрапортовать позвончей, с выдумкой. Батюшки-светы, что тут началось!
Кто – за топор и пошёл рубить-корчевать виноградники, другие – за ломы-кувалды и давай курочить заводы, а заодно утюжить бульдозерами стеклопосуду. Всё! Теперь она нам без надобности!
Круто взялись. Не то что районы, области с ума посходили: «Даёшь пятилетку за год! Ура-а!»
У нас в колхозе, таких перегибов не было и, если честно сказать, боролись слабовато. Наш секретарь парткома Гоша Старостин собирает нас и советуется: мол, что делать и как быть? Подумали мы и решили организовать проверку. Подключили женсовет, сельский актив, Совет ветеранов и пошли в народ.
Решили начать со столярного цеха, потому как у них больше всех соблазнов. Работа у них слишком нервная. Кому раму связали, кому гроб обстругали, а благодарность – в жидкой валюте. Заходим к ним, а они, паразиты, все пьянёхонькие и даже не хоронятся. Сюда, голубчики!
В стройбригаде возможностей ещё больше. У них по Райкину: «Кирпиш – бар, раствор – ёк. Курым!» А раствор «ёк» потому, что эти сволочи цемент загнали налево и теперь гужуются напропалую. Попались, мерзавцы!
А бродяги трактористы вообще в деревне на отличку. Кому спахать, кому дров или сена привезти – пожалуйста, но, понятное дело, не даром же. И до того принаглели, что во главе с бригадиром-коммунистом, Николаем Ивановичем, пьяные как собаки, шарашатся между сеялками да тракторами. А кое-кто даже дрыхнет в тенёчке под огромным плакатом «Здесь работает бригада коммунистического труда!» Ну-ка, сюда партбилеты!
Но больше всех отличились на ферме. Я даже обалдел. Эти архаровцы сбродили цистерну патоки, костёр под ней запалили, а заместо змеевика подключились к молокопроводу и куда тебе с добром! Это же надо додуматься? Вместо молочка из молокопровода журчит струйка самопала из-под бешеной коровки. Но даже и не это главное. Главное, что на противоположной стене– портрет дорогого вождя Ильич в революционном порыве подался вперёд и рукой показывает на фляги с самогонкой. И как одобряет: «Верной дорогой идёте, товарищи!»
«Товарищей» всего два человека: депутат сельсовета, доярка Валя Самохина, и скотник Мишка Князев, человек хоть и беспартийный, но, всё одно, языкастый. Депутат Валя маленько стушевалась и понесла что попадя:
— Это мы тово… дезинфекцию молокопровода делаем, микробов убиваем… моющих средств нет, вот мы и тово… Ну и что? Ой-ой, преступление… зато от нашего молока ребятня в школе и садике целый день поёт… А вы на меня не орите грубо, у меня депутатская неприкосновенность… этот… мунитет.
Тут Мишка Князев пришёл к ней на помощь и перевёл разговор в политическую плоскость.
— Валя, да не у ентом дело. Георгий Василич, что я у вас хотел спросить? Это… вы сегодняшнюю «Правду» читали? А ведь Нельсона Манделу опять посадили в тюрягу. А-а, уже знаете… Как при чём здесь Мандела? Та вы что! Я как узнал, так сердце кровью облилось. Этот долбаный апартеид всю Южную Африку замордовал, как вы нас этими проверками. Вы чё, рабочему человеку не доверяете? Мы же предприятие самоконтроля!
— Ты! Рабочий человек! – Орёт Гоша, а сам тычет то на фляги, то на Ленина. – Это что такое? Дезинфекция? Восемь фляг!
— Ой, Господи! – Обиделся Мишка. – Что вы привязались с этой самогонкой? Вам что, делать нечего?
— Заткнись, Князев! – Осерчал Гоша Старостин. – Доигрались, Менделеевы! Всё конфисковать! Да вы у меня… Да я вас!
Депутат Валя видит такое дело и сама попёрла на Гошу:
— Чёрт с ней, с Манделой и самогонкой. Ты, секлетарь, лучше ответь, когда начнёте ремонт фермы? Где обещанные строители? Почему стоит кормоцех? Где спецодежда и моющие средства?
Тут они стали что-то доказывать друг другу и спорить, а я вижу, как член комиссии Володя Уткин из бухгалтерии под шумок крадётся к фляге. Зачерпнул полстакана, осадил и на ухо Мишке Князеву шепчет:
— Как вы делаете? Она из патоки, а не воняет и крепкая.
— Так мы же её сразу фильтруем через берёзовый уголь. Вы как кончите… тово… бороться с нами, так и приходи. Я тебя научу. Нас так гнать надоумил главный зоотехник Фомичёв. Ещё, говорит, хорошо получается с дроблёнки, но это посложней, надо через кормозапарник. Хлопотно, зато как казёнка.
— И откуда он, собака, всё знает?
— Это он был на семинаре, а там они обмениваются опытом. Туда же каждый со своей продукцией едет, и все друг перед другом демонстрируют достижения по борьбе с указом. Что ты! Там такие головастые мужики. Учёные.
Ладно. По итогам этой работы провели собрание, а потом партийное собрание, а коммунистов-выпивох пропустили через партком. Их-то чехвостили в хвост и гриву. А надо сказать, что партия тогда была на большой силе и огрызаться побаивались.
Наш секретарь Гоша Старостин как всегда вместо воды в графин набуровил самогонки (на этот раз конфискованной) и заседаем. Нет-нет, а чтоб утолить жажду и подогреть кровожадность к этому шлаку, отбросам человечества, из графина цедим помалу. Работа, сами понимаете, нервная, идёт толковище.
Аж окна звенят, до того заседание бурное. Все что-то доказывают, галдят, особенно бабы из актива. Туда подбирают таких, у кого мужики пьют запоем, а потому они аж визжат и сучат ногами. Мы, парткомовские, страсть как разошлись: кому замечание, кому предупреждение. Дошло до того, что замахнулись на депутата, завфермой Валю Самохину, и бригадира-коммуниста Николая Ивановича. Грозили им и даже стыдили!
Мы строжимся и делаем вид, что с цепи сорвались, а они делают вид, что страшно напужались.
И так у нас всё идёт гладко и на душе покойно. Делаем-то святое дело: кормильцев отрезвляем и в семьи мир возвращаем. Бороться-то мы боремся, а не забываем графин за горло хватать. Но всё в меру, не жадничаем. Пьём-то без закуски. Каждый потребляет столько, насколько позволяет здоровье и образование.
И вдруг, как гром среди ясного неба, открывается дверь и… царица небесная! Вот он сам-друг – Первый из райкома!
У Николая Ивановича с перепугу враз живот вспучило. Да что там Николай Иванович, нашего секретаря Гошу Старостина и то запотряхивало, а он закалённый, ВПШ закончил. Но взял себя в руки, обсказал, так и так, товарищ секретарь, боремся с пьянкой, согласно последних указаний ЦК КПСС и райкома.
Первый посмотрел повестку, полистал протоколы, материалы проверки и одобрительно запокачивал головой. Вроде отлегло, мы успокоились, да как всем кагалом накинулись на пьяниц, да всё друг перед дружкой. Шутка ли, сам Первый рядышком, поневоле вызверишься. Он видит лютую активность и у себя в блокнотике что-то помечает, не иначе как где-то похвалит.
Хорошо. Всё идёт своим чередом, только вдруг Первый запооглядывался и говорит:
— Душновато что-то у вас. Налейте-ка мне стаканчик воды.
Гоша Старостин побледнел, потом всё же исхитрился, как подхватится:
— Михлованыч! Да я сейчас вам мигом холодненькой.
— Нет, нет, – замахал руками Первый, – меня и так ангина замучила, лучше, уж какая есть.
Мы замерли. Ой, что-то будет! Николай Иванович ехидно улыбается. Уж он-то, подлец, знает, что у нас в графине, сам же два срока заседал в парткоме. Тут Гоша с перепугу накатил полный стакан, подал и зажмурился. Будь, что будет!
А Михаил Иванович хоть бы глазом повёл, выпил и говорит:
— Что-то она у вас болотом отдаёт.
Пока он пил, была такая тишина, что слышно, как муха топочет сапожками по протоколу, а как он сказал про болото, мы и задышали. А в толк не возьмём, как это? Человек с высшим образованием, а самогонку от воды не отличит?
Дали разгон выпивохам, построжились и отпустили с миром. Остались одни свои, партийные. Первый стал разъяснять линию Политбюро по ускорению строительства коммунизма, сказал много патриотических слов, спели «Интернационал» и партком распустили. Только расходиться и тут он вдруг ехидно говорит:
— А вас, товарищ Старостин, я прошу остаться.
Сам плотней дверь прихлопнул и один на один, как врежет:
— Эт-то что за комедия?! Ты что, совсем оборзел? Стыд! Срам! Святотатство! Это надо же додуматься, сами их распекают за пьянку и тут же хлещут эту мерзость. От всех несёт сивухой. Это так ты проводишь линию Политбюро? Кой чёрт тут коммунизм, если его пьяные коммунисты строят. Позор!
Гоша блекотит, что вышла промашка, с кем не бывает. Кто же знал, что вас черти принесут? Это по традиции, а потом, как от масс отрываться, ведь народ и партия едины. Говорит: «Конь о четырёх ногах, а спотыкается». Закончил политично: «А коммунизм мы построим, так как одобряем линию райкома».
— Народ! Традиции! Одобряете! – Опять загремел Первый. – Я покажу традиции, конь, видишь ли, у него на четырёх спотыкается. Ты и на четырёх не устоишь. Жрать надо её меньше и спотыкаться не будешь. В общем, к девяти быть в райкоме.
Тут уж Гоша струхнул не на шутку. Всю ночь глаз не сомкнул и шептал: «Что день грядущий мне готовит?» А приготовил он ему вот что. Утром, спозаранку, пришлось загорать на стульчике в «предбаннике» у Первого. Долго ждал. Его специально «выдерживали», чтобы показать всю его ничтожность. Туда-сюда снуют чистенькие, аккуратненькие райкомовцы, на него не глядят, он уже «бывший». Хоть стреляйся.
А из кабинета раздавались громовые раскаты Первого и Гоша соображал, что попал под горячую руку.
Наконец Первый чувствует, что Гоша созрел для беседы и его волокут «на ковёр». Не здравствуй, не прощай, – с ходу в лоб:
— Партия тебя в колхоз за каким чёртом посылала? А? Эт-то что, новый партийный стиль работы? А? Эт-то и есть ваши партийные традиции? А? Да ты хоть сам-то соображаешь, что делаешь? Трам-тарарам!
И пошло, и поехало. Ругать так, чтоб мороз по коже, и достать до самых печёнок – это искусство, на это надо иметь талант. Первый был талантливым человеком, и Гоша это почувствовал. Его как-то по женской линии застукал муж с приятелем и лупили от души, даже пинали, но и тогда он чувствовал себя не так плохо.
Первый отвёл душу так, что сам устал и Гошу уходил до полусмерти. Тот стоит бледный, скукожился, как пожилая бледная поганка, ну, не жилец. Главное, пот градом, губы потрескались и в горле пересохло, проглотить слюну не может. Первый видит, что пронял мужика и тот раскаивается, потому сжалился:
— Что, герой, небось, тошнёхонько? Так тебе и надо. Поди, душа горит? Ладно уж, выпей воды, охолонись, а то с тобой ещё родимчик приключится и возись тогда.
Гоша, как в тумане, заковылял на ватных ногах к столику. Там стоит массивный бюст Ленина, а рядом хрустальный графин со стаканами. И тут же у стены на стуле стоит тоже полный графин, но только попроще, да и стакан гранёный, по семь копеек за штуку. Гоша и думает, что за свой подлый поступок не достоин пить из хрусталя, что рядом с вождём, а потому набулькал в копеечный стакан из графина попроще и хлобысть.
Его ка-ак шибанёт! В животе искры, из глаз посыпались звёзды и во рту всё обожгло. Он-то организму дал установку на воду, а там – голимый спирт!
Первый оборачивается к нему, видит, такое дело, что Гоша глаза выпучил, как рыба, ртом воздух хватает. Досадно крякнул и уже не так строго, но с укоризной говорит:
— И что у тебя, Старостин, за хмельная натура? Руки сами чуют, где выпивка. Тебе бы на таможне работать или в ОБХСС.
А Гоша всё стоит, рот раззявил, глаза, как у щуки, которая попалась на блесну, никак не отдышится и некстати думает: да неужели в обкоме и в ЦК тоже бывает путаница с графинами?
— Налей-ка и мне, что ли, – говорит Михаил Иванович, – с тобой поневоле согрешишь, да и притомил ты меня.
Сам долго рылся в сейфе среди секретных партийных документов, наконец, отыскал яблоко и, как бы оправдываясь за скромную роскошь закуски, продолжает:
— Вот ты грамотный, недавно ВПШ закончил, может, хоть ты мне объяснишь, почему мы так заботимся о выпивке и так безобразно закусываем? Неужели это и есть неизбежный исторический путь развития России, только пить, а жить без продовольствия, впроголодь?
И тут у Гоши сработал инстинкт самосохранения. От спирта ум увеличился, как у всякого русского, и он экспромтом, как шарахнул стихом, и главное, к месту, в самую точку:
Человек, как водоём,
Так медицина доказала.
Потому мы много пьём,
А закусываем мало.
На следующей партийной конференции Гошу Старостина ввели в состав бюро райкома.
Так что, будем здоровы?!
Ох, уж эта Германия!
(Про коварный зарубеж)
Будут с водкою дебаты – отвечай:
«Нет, ребята-демократы, только чай!»
В. Высоцкий
После института Михаил Василич всего года три и отработал агрономом, а потом его избрали секретарём парткома совхоза. Тут по случаю какой-то даты стали формировать группу из сельской молодёжи в Германию на молодёжный форум дружбы двух стран. И его определили старшим группы.
Как всегда их наскоро проинструктировали, в какой руке держать вилку, а в какой ложку, что икать за столом и облизывать пальцы неприлично.
Ещё его мужики предупредили, чтоб он осторожничал, так как в каждой группе едет работник КГБ и потом сигнализирует куда следует, а там делают выводы. Просмотрел он список – вроде, все свои: скотники, доярки и трактористы и успокоился. А зря.
Прилетели в Берлин, всё нормально: и встретили, и разместили. Особенно мужикам понравились фрау в брючках, так как у нас тогда все носили платья и юбки, как у Надежды Крупской.
По плану идёт этот форум дружбы народов, речи, концерт, а вечером приём нашей делегации немецкой стороной. Пошли тосты за мир и дружбу. Хоть и морщатся хозяева, а благодарят за то, что в сорок пятом снарядами разнесли к чёрту их рейхстаг. Наши отвечают: «Не стоит благодарности, если ещё приспичит с рейхстагом, милости просим…» Со словами всё нормально, а вот с выпивкой и закуской совсем худо. Пьют шнапс напёрстками, а закусывают сыром и хлебом, которые насквозь просвечиваются. После приёма наши скорей по магазинам, загрузились колбасой, консервами и хоть в гостинице наелись.
На другой день ответный приём. Михаил Василич, как старший, идёт на кухню ресторана, делает заказ и просит, чтоб обязательно приготовили сибирские пельмени. Немного, по полсотни на брата. Водку они привезли свою, тогда разрешалось брать с собой по четыре бутылки. Ещё он просит, чтоб поставили гранёные стаканы, а они руками разводят и не знают, что это такое – гранёные стаканы. Стали подбирать тару – нет! Видит, у них стоят подцветочники нужной ёмкости, просит сервировать ими стол.
Приём удался, правда, у немецкой молодёжи глаза на лоб полезли, когда Михаил Василич предложил тост за их секретаря ЦК партии Эриха Хоннекера и нашего Брежнева и опорожнить подцветочники стоя. И до дна. Но выпили, правда, потом двое немецких товарищей упали, с тремя стало худо, но остальные ничего, держались молодцом и к полуночи все запасы водки прикончили. Понимают, за мир и дружбу грех не выпить…
А потом на бюро крайкома партии, да-да, крайкома партии Михаилу Василичу объявили строгий выговор. И всё из-за этих проклятых подцветочников. Вроде мы не умеем культурно пить из мелкой тары. Он же оказался и виноват, что у этих культурных чертей нет гранёных стаканов. Всё, что он говорил в Берлине, лежало перед секретарём. Был всё-таки среди них стукач из КГБ. Вот же сволочь, жрал, пил за их счёт, а потом донёс.
Ещё обидно, что Коля Самохин, главный зоотехник, он тоже ездил в Германию, как узнал про выговор, то стал ехидничать. Всё хаханьки строил насчёт того, как их парторг ловко немцев поил из подцветочников. Мужикам потеха, ржут. Вот же змей!
И решил Михаил Василич хоть на нём отыграться и проучить. Надо сказать, что этот Коля был на морду страшненький, но отчаянный бабник. Тогда у зоотехника и ветврача казённого дармового спирта было навалом и вот он, как только его нажрётся, так и начинает баб тискать. Даже частушку пел:
Пролетели четверга,
Наступили пятницы.
Не одни доярки б… (лёгкого поведения),
Б.. (лёгкого поведения) и телятницы.
Из-за этих баб ему жена частенько морду царапала, но тому всё неймётся, потому она не раз приходила в партком и жалилась. А в Берлине ему поглянулась переводчица-гид – Эльза. Он-то дурачок не поймёт, что это Европа, тут сервис и она по обязанности внимательна ко всем, а ему померещилось, что она «положила» на него одного глаз и всё к ней подбивал клин.
Михаил Василич это берёт на заметку, идёт к бухгалтеру Яше Мерцу, который знал немецкий, и уговорил помочь. Тот согласился. И вот они этому Коле на немецком языке сочинили любовное письмо от имени Эльзы. Что она по уши в него влюбилась и жить в сытой Германии без него уже не может. Наплели всякой любовной чепухи на двух листах и в конце, что она желает приехать в Союз, уговорить его выехать к ней в Берлин.
А тогда как раз евреи подались в землю обетованную, а русские немцы навострили лыжи в Германию и это, в смысле политики, было нежелательно.
Короче, письмо оказалось в почтовом ящике Коли. Тот, хоть по-немецки и не кумекал, но ума хватило расшифровать в конце слово «Эльза». Задницу в горсть и сразу рысью к другу в районо, тот вызывает учительницу «немку», она сделала дословный перевод и дала клятву молчать.
Неизвестно, говорил ли Коля жене про письмо или нет, но по селу «германский» слух пополз. Через неделю созрел Коля и Михаил Василич вызывает его в партком, объясняет, что нехорошая молва идёт и уже этим интересуется райком. Налицо порочащие связи с заграницей и желание коммуниста бежать в Германию, а КГБ интересуется: не выдал ли он их разведке наши секреты по осеменению крупно-рогатого скота?
Выпустят ли его из страны ещё неизвестно, а вот что за это погонят метлой из партии – точно. А без партбилета он – кандидат в пастухи И ещё подставил зав. районо и учительницу «немку», а они члены КПСС и не просигналили о грехопадении товарища по партии. У Коли волос дыбом, просит помочь. Михаил Василич поломался маленько, но потом согласился.
Через неделю вызывает его и говорит:
— Хоть было и трудно, но уговорил, кого надо, и грехи твои отпустят, но потребуется ящик водки и шашлыки человек на десять. И за свои деньги. Я проверю. – Коля на седьмом небе!
А Михаил Василич был мужик не простой, видит, что после крайкомовского выговора на него в райкоме косоротятся, он и подсуетился. Всё это он подгадал ко дню рождения секретаря райкома. Тот пригласил, кого надо, из райкома и заявились.
Секретарь про «германскую» Эльзу и сном-духом не знает, но, конечно, рад, что его так уважают и подобрел к Михаилу Василичу, видит, что тот осознал свой поступок. Всё прошло по высшему разряду, правда, ему ещё два раза пришлось мотаться в деревню за водкой, и в общей сложности Михаил Васильевич его наказал на две месячные зарплаты. Так ему и надо, пусть, уважает чужую беду, а главное, не бегает по чужим бабам.
Теперь, как только заходит речь куда-то ехать с делегацией, Коля на дыбы, ни в какую. Что интересно, до того напугался, что бросил бегать по дояркам и телятницам. Жена не нарадуется, даже приходила в партком и благодарила Михаила Василича за «принятые меры».
Как не стать миллионером
(Не жили богато, нечего и начинать)
Не надо, не воруйте у людей,
Ведь их и так, без вас, обворовали.
М. Танич
Виктору Сергеевичу всю жизнь не везло. Не хватало этих проклятых денег. В жизни, как кому на роду написано, одному всё, а его, как чёрт пометил. Сверстники щеголяли в модных шмотках и обжирались колбасой, а он экономил каждую копейку. Студентом по ночам разгружал вагоны, работал дворником, сторожем в садике и, всё одно, еле-еле сводил концы с концами.
Может, из-за этого и наладился мечтать. Как выдастся свободная минутка, он погружается в свой мир фантазий. То вдруг у него в Америке объявится родственник-миллионер, который окочурился и ему оставил огромное наследство. Или, конечно, случайно находил огромные клады. Как-то получалось так, что сам факт, как он разбогател, выходил сам собой, это вроде прелюдии, а вот дальше начиналось самое интересное. Он – новоявленный российский граф Монте-Кристо и жизнь начинала круто меняться. У него теперь была одна проблема, как с толком истратить эту уйму денег. И он принимался их тратить. Конечно, нужны квартиры и дачи в Москве и на Черноморье, и если покупать машины, то какие и сколько?
Можно подмогнуть и родственникам, вот радости будет, а сколько о нём разговоров! «Витька-то наш, ого-го! Молодец!»
От таких мыслей голова шла кругом, приятно сосало где-то под ложечкой и не так противной казалась грубая проза жизни. Ну, скажем, придёт он на рынок, а там цены, как змеи, ползут и кусаются. Всего навалом: и провесные балыки, и икра, и заморские фрукты, а он берёт суповой набор из костей, кильку и гнилые яблоки, что подешевле, но и здесь есть повод помечтать. Бредёт домой с авоськой, а воображение рисует, как сидит он дома в японском халате, а ему с рынка по заказу, тащат все эти свежие деликатесы с ананасами и персиками… Несут каждый день. Помечтает так и ему становится чуть легче.
Ещё он регулярно покупал лотерейные билеты, «спринт» и «спортлото», причём, брал только по одному билетику. Что интересно, он заранее знал, что никогда не выиграет. Но это был реальный юридический шанс разбогатеть. И даже не расстраивался, когда выходил тираж розыгрыша и ему выпадал кукиш. Зато до самого розыгрыша он ходил, как блаженный. Идёт на работу, погода мерзкая, сыро и холодно, но он ничего не замечает, воображение рисует: открывает таблицу, сверяет номер, серию, а там заветная «Волга!» Уж так в России повелось, верхом достатка является она, голубушка–машина.
От этого сладко щемило сердце и начиналось! Вот он подъезжает к конторе на новенькой «Волжанке», а его начальник на задрипанном «Москвичонке» и зеленеет от злости. Сотрудники, которые его в упор не видели, падают в обморок от зависти, а он: «Так вам и надо, сволочи. Где вы были, когда я по ночам вагоны с солью разгружал?»
Раз, правда, его величество случай погладил по макушке и ему, как передовику, дали путёвку на ВДНХ в столицу. В довесок даже премию отвалили. Поехал. Всё было хорошо. Три дня топтался в этом муравейнике и пучил глаза на всякие удивления. В ГУМе отстоял два часа в очереди и купил Клавдии зимние сапожки, а себе кожаную куртку. Ещё и ребятишкам набрал гостинцев. Надо домой. И тут Фортуна спохватилась, что и так отвесила ему радости за глаза и пора всё уравновесить.
Приезжает он в аэропорт Домодедово, хвать за карман, а бумажник с документами и билетом тю-тю! Какой-то гад позарился, а денег там было всего три рубля, что оставил на автобус.
Ох и хлебнул же он тогда горя! На себе испытал, что Москва слезам не верит. Пришлось за полцены продать и сапожки, и куртку, а москвичи на него ещё и косоротились, как на жулика: «С чего это ты, мужик, так дёшево продаёшь? Не иначе как украл». Три дня поездом добирался до дома, а уж как его встретила сердешная Клавдия Васильевна лучше и не вспоминать.
Шло время. Отшумела перестройка, разогнали партию, начались эти чёртовы реформы. Появились бомжи, «новые русские», проститутки и депутаты Госдумы. В аккурат 11 сентября, когда террористы протаранили в Америке два небоскрёба, с ним и приключилась эта занятная история.
В тот памятный день у них в третьем цеху запустили сборочную линию, и по этому случаю был митинг, а для управленцев ещё и банкет. Виктор Сергеевич такие мероприятия не любил потому, как на Руси трезвые решают два вопроса: кто виноват и что делать? А уж как подопьют, главным становится один – ты меня уважаешь? Он не любил, когда его трясли за грудки, а потому пораньше отправился домой.
Ехал на автобусе и как всегда мечтал. На этот раз он блуждал где-то по Уссурийской тайге, где Колчак в гражданскую войну спрятал золотой запас царской России. И вот, когда он, случайно конечно, нашёл тайник, вскрыл первый ящик и уже увидел золотые слитки, тут и случилась эта уголовщина.
У остановки напротив ресторана «Колизей», когда автобус уже тронулся, дверцы зашипели и стали закрываться, какой-то запыхавшийся усатый мужик прямо ужом проскользнул в салон и плюхнулся на сиденье рядом с Виктором Сергеевичем. И только отъехали, как милицейский УАЗик-«синеглазка» с сиреной и мигалкой обогнал их и перегородил дорогу.
Этот усатый сосед наклонился к нему и по-приятельски говорит: «Ну совсем менты оборзели! Что хотят, суки, то и делают!» Виктор Сергеевич по инерции поддержал разговор, мол, действительно, оборзели менты.
Входят два мордастых милиционера, а с ними – упитанный бугай с короткой стрижкой, сразу видать – уголовник из «новых русских». Крутнулись туда-сюда, вдруг этот бугай в малиновом пиджаке, как заорёт: «Вот он, гнида!»
Менты хватают его соседа за шиворот и волокут из автобуса, а тот блажит: «Вот тебе и демократия! Люди, помогите! Я нобелевский лауреат Жорес Алфёров!»
Наиболее сознательные граждане загалдели: «За что лауреата вяжете?» А те только буркнули на ходу: «Ворюга он, карманник. Нобелевские лауреаты в автобусах не ездят». И всё. Виктор Сергеевич ещё успел заметить, как бедолагу, его соседа-«лауреата», запихали в «воронок», крутой из «новых русских» сел в шикарный «Лэнд-Круизер» и все куда-то погнали.
Виктор Сергеевич снова попытался вернуться в тайгу к царскому золоту, попробовал в тайнике сосчитать хотя бы ящики, чтобы узнать, сколько всего тонн и на сколько он разбогател, но не мог сосредоточиться. Событие с вором-соседом выбило его из привычного состояния. Шутка ли, только что разговаривал с карманником и его, как сообщника, тоже могли повязать.
Ладно. Сходит на своей остановке, а сам всё думает про этого вора и вдруг его как кипятком обдало! А чё этот урка так к нему прижимался, когда разговаривал? Не иначе как дёрнул сдачу с десятки и пропуск на завод, но тогда, почему так непривычно оттягивает карман? Сунул туда руку… что такое?! Вытаскивает какой-то чудной, пухлый бумажник. Из жёлтой крокодильей кожи, уголки окантованы позолотой. Вот те раз!
Выходит, урка-сосед, чтобы избавиться от улики и сунул ему этот лапоть в карман. Тут он обрадовался и испугался одновременно. Вот же, змей! А если бы его прихватили как соучастника, то это же срок! Но всё обошлось и похоже на то, что ему подвалило настоящее счастье. Что делать? И тут он вспомнил свои воображаемые детективные истории и сцены с крутыми разборками, и умением хитро вырулить из любой переделки. Всего-то и надо оторваться от слежки.
Перво-наперво, как заправский конспиратор, нагнулся и стал возиться со шнурком на ботинке, а сам туда-сюда зыркает по сторонам – не «пасут» ли его менты или уголовники? Потом проворно юркнул в подворотню. Руки трясутся, пот градом. Наконец-то! Забился в закуток, открывает. Мама родная!
Вытаскивает загранпаспорт на имя какого-то Хельмута Гольдмана, въездную визу, авиабилет на рейс Москва-Мюнхен, визитку директора местной фирмы «Аскольд» и пачку стодолларовых купюр. Пересчитал, сколько же это будет на наши деревянные, и никак не может сосчитать. Выходило за два миллиона! Наконец-то! Вот она новая квартира, ананасы с балыком.
Что делают деньги! То жил спокойно, а тут навалилась такая забота и башка заработала, как компьютер. Надо и деньги сохранить, и живым остаться. Его как подменили. На случай слежки старался сбить со следа: прыгал с одного автобуса в другой, нырял в людные магазины и растворялся в толпе, галстук и очки то одевал, то прятал.
Домой крался осторожно, прошмыгнул в подъезд и мигом на все замки. Хорошо, что жена была в отпуске, на три дня уехала на дачу, и не мешала ему перебеситься с навалившимся счастьем. Он хоть и был подкаблучник, но до того раздухарился, что даже нарушил строгий запрет супруги: распечатал бутылку водки и без спроса выкушал стопочку.
Когда остыл и успокоился, то начал трезво рассуждать и получалось, что его счастье, за счёт чужого горя. А поскольку он в душе был человек набожный, то вспомнил, как сам без денег и документов мыкался в Москве и все люди казались врагами. Этот немец Хельмут, хоть и капиталист и в переходах не будет канючить рубли на дорогу до Мюнхена, но с загранпаспортом и визой намыкается. Да и куча долларов, это вам не кот начихал.
Ну, хорошо, утаит он этот кошелёк и что? Всё равно его где-нибудь, как-нибудь вычислят. Та же Клавдия по-бабьи сболтнёт или сам запросто может влипнуть. Сидеть же на куче денег и чтобы не попользоваться? А народ у нас бдительный, доброжелатели мигом просемафорят куда надо, а оттуда: «Ваша декларация о доходах, дорогой товарищ!» Выходит – живи и оглядывайся?
Не-ет! Лучше отдать. Неужели не отблагодарят? Ведь даже жадное государство и то за клады и находки выплачивает двадцать пять процентов. Достал визитку, читает: «Генеральный директор совместной Российско-Германской компании «Аскольд» Воротов Валерий Васильевич». Тут же номер факса и телефона. Время ещё рабочее, звонит:
— «Аскольд» слушает, – проворковало в трубке.
— Дорогая девушка, соедини-ка меня с Валерием Васильевичем, – говорит Виктор Сергеевич, а сам удивляется своей вальяжности и нахально-снисходительному тону. А что, знай наших.
— Во-первых, вам надо представляться, – обиделась на его фамильярность «дорогая девушка», а во-вторых, его нет и сегодня не будет.
— Ты, дорогуша, найди его и только намекни, что я с ним хочу поговорить насчёт Гольдмана. Увидишь, что с ним будет. Думаю, обрадуется. – И назвал свой номер.
И точно. Не успел он ещё похвалить себя за дипломатию, а тут вот он и звонок. Снимает трубку. Слушает. Там мужик словами давится, орёт:
— Воротов я с «Аскольда». Что у тебя есть по Гольдману?
Виктор Сергеевич воробей стреляный, осторожно уточняет:
— Что вы, собственно, хотели услышать? Может, проблемы с Мюнхеном?
А вот Воротов был плохим дипломатом, потому сразу взорвался и понёс:
— Ты… (трам-тарарам!) Лох отмороженный! Что у тебя есть? Не гони пургу, сколько хочешь? Говорю тебе, не тащи нищего по мосту! – А в голосе такая угроза, что мурашки по спине.
— Вы меня не поняли, я ничего не хочу, – струсил Виктор Сергеевич, сам чувствует, как сердце мимо пупка покатилось к пяткам и захотелось в туалет.
Воротов перебил:
— Ты! Козёл вонючий!.. (трам-тарарам). Закрысившийся отморозок! Что ты из себя горбатого лепишь? Я по номеру телефона махом вычислю и тогда тебе деревянный бушлат обеспечен!
И вот что странно, эта угроза на Виктора Сергеевича не только не подействовала, наоборот, обозлила. Он же с добром, а ему так хамят. По блатному ругаться он не мог, но попробовал:
— Сам ты козёл душной и к тому же сволочь. Он ещё варежку раскрывает, по номеру вычислит. В гробу я тебя видел в белых тапках на босу ногу. Урка питерский. Ты сам тут при чём? Чё шестеришь? Пусть эта немчура Гольдман приезжает и забирает свой крокодильский бумажник. А паршивые ваши баксы и документы мне до лампочки. Усёк? Записывай адрес.
Отбрил так отбрил, откуда что взялось. Вот, что называется напор. В трубке сперва замешательство, потом Воротов уже другим тоном говорит:
— Тогда, братан, извини. Я думал, ты в долю лезешь. Ладно, проехали. Сейчас подгребаем к твоей хате и побазарим.
И верно. Из окна видит, что подкатывает знакомый «Лэнд-Круизер», из него лезут два бройлера. В одном сразу узнал того «нового русского», что был в автобусе. Нарисовались в дверях. Воротов представился, а сам, как пружина, места не находит, видать, переживает. Потом коротко обрисовал ситуацию. Оказывается, Гольдман – их партнёр по бизнесу, прилетел на несколько дней из Германии по выгодной сделке. Отмечали её в ресторане, и когда он хватился, а бумажника-то хрен да маленько. Тут тебе не сытый Мюнхен, курятник не раскрывай.
— Как у тебя бумажник оказался?
— Так он же, сволочь, в автобусе мне его в карман подкинул.
— Я сразу его вычислил. Он всё крутился возле немца и главное – попросил прикурить, тогда и дёрнул лапоть. Хорошо, что у ресторана менты дежурили и засекли этого магаданщика. Он из «рысей», матёрый вор и чистодел. Взять-то мы его взяли, а он пустой. Если честно, то не думал, что нам так пофартит.
Высыпал всё из бумажника на стол, проверил и пересчитал доллары. Как-то странно посмотрел на Виктора Сергеевича и говорит напарнику:
— Федя, звони Гольдману, обрадуй его. Он, наверно, сейчас в обмороке валяется в номере. Пусть собирается, время в обрез.
Тот по мобильнику набрал гостиницу и что-то залопотал не по-нашему. Одно только и понял Виктор Сергеевич: «гут» и ещё «ауфидерзейн».
Воротов говорит:
— Братан, ты нас извиняй. Нас время поджимает, через 20 минут начинается регистрация билетов на Москву. Если опоздаем, то сорвётся его рейс на Мюнхен. Сейчас удивлю немца сибирской честностью. Спасибо, братан, помог вырулить. Я не прощаюсь. Скоро вернусь, тогда и побазарим. Тебе с этого причитается доля. Раз ты живёшь по понятиям, то и мы не обидим.
Ладно. Раскатал губы Виктор Сергеевич и млеет в ожидании финансового счастья. Не дождался и лёг спать. Только угнездился, завыла милицейская сирена, потом визг тормозов, потом во дворе послышались крики, топот и какая-то возня. Через пару минут звонок, открывает дверь и… батюшки! Стоит пьяный в дыминушку Воротов, разбойничья рожа в крови, весь в грязи, рукав малинового пиджака болтается, а сам лопочет:
— А-а! Это ты, лох! Запомни, Валерка за базар отвечает.
Заходит. Виктор Сергеевич стал с ним возиться, как мог привёл в божеский вид, помог умыться, прошёлся щёткой и стежками через край присобачил рукав пиджака.
Из путаных объяснений понял, что проводили они немца, потом Воротов тут же в аэропорту встретил каких-то знакомых по бизнесу крутых девок и с радости надрался до чёртиков.
А сам-то за рулём и стал выписывать кренделя. На КПП гаишники заметили и гнались до самого дома. Будь это «Запорожец», они бы плюнули, а тут такая крутая тачка, грех не поживиться. Под окнами и сцепились. Отобрали машину вместе с пьяным переводчиком Федей, барсеткой и мобильником. Ясно, что включат счётчик. Но он всё-таки сумел отбиться и вырвался из плена. Бугай-то здоровый, в зоне кулаками махать научили.
— Их трое, а я один, – рисовался он перед Виктором Сергеевичем, – ты не смотри на мою репу и макияж (синяки), им тоже досталось. Да ну их (туда-то и туда-то). У тебя есть что выпить?
И тут Виктор Сергеевич сделал ошибку, о чём пожалел позже. Достал начатую бутылку водки и немудрёную закуску. Воротов «из горлá» отбулькал половину и потребовал телефон. Его совсем развезло, он ругался матом и с остервенением крутил диск, но в его родном офисе никто не отвечал.
— Козлы! Ну я вам завтра устрою Варфоломеевскую ночь! – Да со всего маха ка-ак хватит телефон об пол. Допил водку, упал на диван и захрапел.
Через час очнулся, бессмысленно уставился на хозяина и заревел: «Ты как сюда попал? Чё тебе, козёл, надо?»
Потом началось такое, что и вспоминать страшно. Скажем только, что он пинками гонял Виктора Сергеевича по его же квартире. Материл на чём свет стоит, два раза ловил и принимался душить. Его спасло только то, что гость увидел недопитую бутылку, опоржнил её, хряснулся на диван и отключился.
Виктор Сергеевич отдышался, сгрёб остатки телефона и давай колдовать. Возился-возился, соединял какие-то проводки и тот, наконец, ожил, загудел. Слава тебе, Господи! Дозвонился до такси. Уточняет:
— Скажите, ночью вы доставляете недвижимость по адресу? А сколько это будет стоить?.. От Потока до Солнечной поляны.
— Тариф шестьдесят рублей, ночью он удваивается. Устраивает вас? Тогда номер телефона и адрес. А что за недвижимость?
— Да у меня тут щепетильное дело: надо увезти домой пьяного начальника. Адрес есть. Я заплачу. Сколько будет стоить?
— Буйный? Начальник, спрашиваю, буйный?
— Если честно, то – да. Чёрт бы его побрал. А ещё депутат, со значком. Сможете? – А вот тут он сделал вторую ошибку, о чём сразу же пожалел.
— Мы всё можем. Но у вас дело политическое. За обслуживание недвижимых и буйных депутатов, а также сотрудников ОМОНа расценки ещё раз удваиваются. Эти клиенты непредсказуемы. Тем более, без сопровождения. Это плата за риск. Короче – готовьте 250 рублей.
Раздумывать было нельзя, так как Воротов упал с дивана и начал что-то матерно бормотать. Вот-вот опять проснётся.
— Хорошо. Только пришлите таксиста покрепче и поскорее!
— А вот за это не волнуйтесь. У нас для этого случая есть спецы, которые мигом прилетят и успокоят.
И точно. Минут через десять звонок в дверь и появился таксист. Сперва пересчитал деньги, потом уточнил адрес и только тогда стал будить клиента.
— Давай, командир, поехали баиньки домой. Карета подана.
— Ты как сюда попал? Чё надо, козёл? – Воротов начал орать и замахнулся кулаком. Но таксист знал своё дело по части доставки пьяных депутатов и ОМОНовцев. Он легонько ткнул «клиента» кулачком в животик и тот переломился в поясе. Самбист из таксопарка ловко подставил плечо, легко взвалил крутого бизнесмена и как куль с мукой понёс в свою «тачку». У Воротова руки и ноги болтались, как плети. Вот и весь сервис.
***
Рано утром – телефонный звонок. Виктор Сергеевич берёт трубку. Звонил Воротов, и у него только одни вопросы:
— Здорово, братан. Не знаешь, куда делся мой каляколо-переводчик Федя? А где тачка с документами? Кто это меня так уработал? Смутно припоминаю, как будто я вчера был у тебя вечером. А как я дома очутился?
Виктор Сергеевич давай объяснять. Тот долго молчал, видать, с трудом переваривал обильную информацию. Потом говорит:
— Сейчас я к тебе приеду. Надо же тебя по-настоящему отблагодарить. То, что было, – мелочь. Наплюй и забудь.
Виктор Сергеевич испугался. Господи! Если всё, что было, это мелочь, то по полной программе – ему крышка. Запричитал:
— Ради Бога, не приезжайте. Пожалуйста. У меня и денег больше нет. Всё, что жена оставила на питание, за телефон и квартиру, всё на вас угрохал. И водки больше нет. Прошу вас, не благодарите. Нет у меня денег!
И тут Виктор Сергеевич понял: как же хорошо, что он не миллионер, как Воротов. Не бьют по морде, не надо драться с ментами, а потом выкупать водительские права и «тачку», а жить спокойно. Утаил от жены десятку с зарплаты, купил бутылку пива и счастлив. А миллионы с людьми делают, что хотят. Ну их к свиньям собачьим.
А Воротов, всё-таки, приезжал к нему, а вот чем закончилась эта интересная встреча, можно рассказать, только в другой раз.
Про Григория Распутина
(О ясновидцах и экстрасенсах)
— Запомни, Киса, этих людей испортил квартирный вопрос.
Остап Бендер
Работал у нас киномехаником Паша Гребцов. Здоровенный бугай, а уж добрый – мухи не обидит. Обличьем рыжий-рыжий, как спелый подсолнух. Обычно таких шибко любят бабы. Тогда у нас телевизоров ещё не было, потому вся деревня ходила в кино. И приключилась с Пашей забавная история, тем более, что про экстрасенсов и Кашпировского ещё тогда никто не знал.
Хоть верьте, хоть нет, а в него вселился дух Григория Распутина посредством таланта экстрасенса и ясновидца. И случилось это после того, как он вернулся из армии и позвал замуж приезжую учителку. Ясно, от любовного зуда стал цветы дарить, плести про луну и обещал на руках носить. А невеста попалась гладкая и красивая, зараза, но с гонором. Носом крутит.
— Какой из тебя жених, – говорит, – а жить где мы будем? На луне в шалаше? Как решишь с квартирой – сразу оженимся.
Вот так оно и повернулось. Девка с высшим образованием, пораскинула умишком – у него две сестрёнки на выданье, родители, а домишко-пятистенник. Потому Пашу к себе близко не подпускает. Пошёл тот к председателю колхоза. А он говорит:
— У тебя хоть какая ни есть крыша над головой, а у меня – молодые специалисты и даже ветврач мыкаются по чужим углам. Три года тебе жильё не светит, а пока крути своё кино.
Выходит из конторы, а тучки набежали и вдруг ка-ак полосанёт молонья, да ка-ак гахнет гром! Что ты! Рядом лесину – в щепки, а Пашу так шибануло, что очухался только в больничке. Еле оклемался, но с того дня с ним стало чёрте что твориться. Дар в него какой-то вселился. Началось с пустяка. Как-то на рыбалке друг его, Костя Истомин, начал жаловаться:
— Паша – душа горит! Присушила меня Надька Смородская. Ну, все бы отдал за неё, а она только зубы скалит и гонит. Ещё и дразнит, змея: «От тебя псиной воняет!»
Если честно, то это была правда: от Кости и ,впрямь, несло табачищем. А если ещё водкой с луком – страсть. С пятого класса смолил, и зубы от курева пожёлтели, как у коня. Раз пять бросал курить. Вот тут Паша и испытал свой дар. Говорит:
— Вообще-то могу тебе помочь. Я – экстрасенс. После того, как меня шандарахнуло молнией, меня распирает от космической энергии. Я всё для тебя устрою, только одно условие – молчок, а то меня менты и налоговики замордуют.
— Могила! Это же не для баловства – я жениться хочу.
И вот Паша закрыл глаза, растопырил пальцы и ну водить вокруг головы, вроде, гладит свою башку. И сам как отключился, даже не дышит. Потом пришёл в себя и говорит:
— Она тебя уже ждёт. Только брось курить и пить. Запомни: я дал установку твоему подсознанию и теперь ты сможешь. Ещё зубы каждый день порошком с содой три. Неделю ей на глаза не показывайся, а как только луна пойдёт на ущерб – смело иди. Тогда космос как раз будет положительно влиять на гормоны.
Через время прибегает Костя, коньяк суёт и зовёт на свадьбу. Сам, как на крыльях.
— Ну и дела! Да ты и впрямь этот… как его… электросекс. И Надька согласна и дома не супротив. Главное – курить бросил!
А немного погодя приходит Олег Иванович, директор инкубатора. Помялся-помялся и говорит:
— Павел Андреич, ты уж меня извиняй, но говорят, что ты тово… экстрасенс. Да ты не серчай, я никому – могила! Я же ещё не старый, а уже второй год ни тово… Как бы, чтобы оно было тово… Ну, ты понимаешь, а то баба меня тово… из хаты гонит.
-А с чего всё началось?
— Я думаю, тут простой сглаз. Его на меня напустила бабка Барсучиха, я ей по весне утят и гусят не продал. Она тогда мне ещё пригрозила, что долго буду помнить. Она же колдует.
Паша ломаться не стал, опять ухватился за голову, сам не дышит, аж глаза закатил, а когда вышел из транса, говорит:
— Вот что, Олег Иванович. Иди на колхозную бойню, возьми там рога молодых бычков и настрогай стружки грамм сто. Ещё накопай и изотри столько же хрена и всё залей литром настойки элеутерококка. Через две недели начинай пить по пятьдесят грамм перед… этим делом. И запомни, до выздоровления, только по вторникам и субботам, потому что в эти дни сильный поток космической энергии. Ясно?
Тот головёнкой кивает, а сам деньги суёт. Паша наотрез:
— Убери и запомни, если я возьму деньги, то посредством космоса у тебя с этим делом совсем будет… тово. Понял?
И потянулись к Паше люди. Молва пошла по деревне – новый Григорий Распутин объявился. И лечит он по особой методике. Сперва обязательно расспрашивал в какой агрессивной среде живёт больной. Всё просто: болезни – это сглаз, а чтобы его снять, надо знать алчных и жадных людей, которые в деревне особенно воруют и грешат. Они-то и напускают порчу. А раз так, ему и выкладывали, особенно бабы, они же всё знают. Только после этого Паша начинал лечить. И помогало.
Больных принимал в кинобудке, перед киносеансом. Пользовал мужиков, строгал им рога и делал настойку, как Олегу Ивановичу, но больше пользовал баб и всё от бесплодия. Результаты были ошеломляющие. Как только какая бабёнка у него в кинобудке побывает, так обязательно забеременеет. С чужих деревень стали приезжать. Только одна беда: ребятишки получались на одну колодку – все рыженькие.
Но это, наверно, космос как-то влиял. Да это мелочь, главное, всё без обмана. Иная объездит все курорты, побывает у знаменитых профессоров, лечится грязями и наукой – ноль. А тут дома, даром и такая радость – маленький дитёночек. Вот так. Без диплома и без докторского халата.
Думали, что он только лечит, да как бы не так. Проходит время и вдруг новость – со свинофермы украли десять племенных поросят. Председатель собрал всех у себя, строжится. Заведующий свинофермой Николай Иванович до того злой, что его бьёт припадок. Зоотехник на себе волосья дёргает.
— Ландрасы! Их же на племя растили. На расплод. За тыщу вёрст привезли, столько деньжищ вбухали!
Участковый Коля Трубников тут же с пистолетом гоношится. Туда-сюда по свинарнику пошнырял, а что он найдёт, хрен да маленько. Председатель его пытает: есть ли хоть какая зацепка или след, чтоб выйти на жуликов? А что тому сказать?
— Чисто сработано, не иначе, как мафия. Ни одной зацепки.
И тут кто-то предложил:
— Что, если Пашу позвать, он же ясновидящий экстрасенс.
Председатель руками замахал:
— Ты чё городишь! Нашёл экстрасенса, нового Григория Распутина. Он своих боевиков нагляделся и буровит что не попадя.
Тут завфермой Николай Иванович вдруг говорит:
— А чё мы теряем? Давайте спытаем. А вдруг?
— Цирк захотели? – Орёт председатель. – Чёрт с вами. Зовите.
Послали за Пашей. Тот приходит. Выслушал всё и говорит:
— Для меня эти ваши поросята – пустяк. Стоит только сосредоточиться и через космос определить, где ваши поросята. Но эти космические лучи на здоровье отражаются. Вы хоть с квартирой решайте скорее.
Председателю даже интересно: ведь врёт и не моргнёт.
— Ладно, – говорит, – если поможешь колхозу, то и мы тебя не обидим. Давай, родимый, напрягайся с космосом.
И что вы думали?
Паша сел. Сосредоточился. Закрыл глаза, обхватил голову растопыренными пальцами и замер. Видят, он и впрямь отключился. Побледнел, капельками пота покрылся.
В кабинете жуткая тишина. Председатель даже головой замотал, шепчет участковому:
— Чертовщина какая-то. Как бы он здесь не крякнул.
Через минуту-другую Паша выходит из транса. Глубоко задышал, вытер пот. Глаза блуждают, слабым голосом говорит:
— Всё ясно. Можете забирать своих поросят-ландрасов. Они на пасеке у Прохорова. Найдёте их в старом омшанике. Только их не десять, а всего восемь.
Завфермой Николай Иванович покраснел и говорит:
— Хоть восемь и то уже хорошо, а двух мы как-нибудь у себя поищем…
Председатель даже засмеялся, как складно врёт Паша. Потом подумал и говорит участковому Коле Трубникову:
— Бери мой УАЗик, пару мужиков и смотайтесь на пасеку.
Через час за Пашей нарочный, требуют в контору.
Пошел. Заходит. Председатель с порога:
— Слушай, Паша, а ведь ты прав оказался. Не только племенных поросят, но кобылу жеребую и прицеп к «Белорусу» изъяли. Вот жила, этот Прохоров. И не подумаешь. Лучший пчеловод, бывший член партии, депутат, а на деле – змей ползучий.
А Паша даже не удивляется. Безразлично спрашивает:
— Зачем вызывали?
Вроде он и не сомневался, что всю правду выложил. Председатель даже стушевался. Какой перед ним матёрый человечище!
— Я и говорю, двурушник этот Прохоров. И, знаешь, ведь у него действительно нашли восемь поросят, а не десять. Двоих кто-то с перепугу подкинул в клетку, так что, всё в порядке. А ты и в самом деле этот… экстрасенс?
Паша даже не удостоил его ответом, у двери обернулся.
— Когда понадоблюсь – зовите. А с квартирой вы подумайте.
Не прошло и недели, как из склада гаража украли новый мотор, который хотели ставить на председательский УАЗик. Скорее за Пашей.
— Сможешь своим ясновидением определить, кто украл?
— Запросто. Только соберите коллектив.
Собрали. Председатель много не говорил:
— Если через пять минут ворюга не сознается, то нары и баланду гарантирую. Я не шучу.
Молчат. В пол глядят. Тогда выходит Паша, сел, закрыл глаза, голову облапил и стал бледнеть. Потом, когда вспотел и вышел из транса, свои моргала вытаращил на агронома Зацепина.
— Иван Иваныч! От кого, от кого, но от тебя этого не ожидал. Верни мотор. Нехорошо красть у своего председателя!
Иван Иваныч заверещал, как ошпаренный:
— Врёшь! Это кино тебе здесь не пройдёт! Да я… да ты…
А Паша спокойненько:
— Сказать, где он лежит? Сказать, кто сейчас номер на блоке перебивает? Сказать, кто помогал грузить? Ах ты, змей!
Того, как обухом по голове. В ногах ползает, лепечет:
— Только не передавайте дело в милицию… Это же тюрьма, а там гомосексуалисты… Не себе брал, по полям мотаюсь… Мотор барахлит… Рожь в этом году удалась… Целину подымал…
Ещё пришлось несколько раз побеспокоить Пашу.
Из склада совхоза украли сорок кулей сахара и десять фляг мёда. Позвали Пашу, и он сразу через космос определил:
— Это дело не наших. Орудовали залётные, а навёл их на склад сторож Серега Волков. Берите его за штаны, расколется.
Всё сошлось. Всё вернули.
Было еще несколько дел по мелочи, потом всё стихло.
От Пашиных способностей и начальство холодный пот прошиб, они тоже не без греха, тоже перестали красть. Не могут объяснить его феномен. А тут он их совсем озадачил. Говорит:
— Я через космос получил предвидение. Звоните в Москву, пусть сообщат во Францию – у них с двадцать восьмого апреля будут заморозки в провинции Шампань. Надо, чтоб подготовились, а то все виноградники вымерзнут. И ещё – пусть предупредят Японию, что двадцать третьего мая у них будет цунами в акватории острова Хоккайдо. Всё смоет к чёртовой матери.
Повернулся и ушел. Чуете, куда хватил? Всех аж мороз по коже продрал. Как быть? А вдруг всё это правда, ведь человек с космосом дружит и всё у него сбывается?
Хоть боязно, позвонили, куда следует. Закрутилась машина.
Только там, где следует, люди осторожные. По линии правительства сообщать побоялись, а потому послали депешу в частном порядке. Сообщили им так: «Вы уж поостерегитесь – у нас есть ясновидящий мужик, который с космосом дружит, и он вам большую беду предсказывает. Поступайте, как хотите, но мы вас предупредили».
И что вы думаете? И заморозки, и цунами были. Только, благодаря Паше, всё обошлось без ущерба и жертв. Французы и японцы Паше «мерси», ветку сакуры и ещё по медали прислали. Тут и наша милиция спохватилась, к себе в уголовный розыск переманывает, но председатель колхоза смикитил, говорит:
— Хренушки вам всем. И за мерси, и за экибану. Никуда он не поедет. Я ему осенью квартиру дам.
И вы не поверите – в Покровке перестали красть! Насторожилось село. Притихло. Замки не запирают, как и было при царе. Это при социализме большинство стало приворовывать, правда, тащили по мелочи: сено, дрова, корма для скотины, и поэтому полдеревни Пашу возненавидело. Два раза его поджигали, один раз даже побили. Великих людей всегда толпа не понимала, бывало, жгли на кострах. Паша не жаловался.
Тогда на него вдруг посыпались жалобы, да так дружно и скопом. Писали в милицию, в прокуратуру и даже в женскую консультацию. Жалились, что он жулик, ещё задавали вопрос: может ли у половины деревни рождаться рыжие ребятишки?
Доигрался Паша. Достали его недруги.
Приходит агент налоговой инспекции, такая дёрганая фифочка, вся из себя футы, нуты.
— Павел Андреевич, вы имеете большие доходы и укрываете их. Заполните декларацию и оплатите сто тысяч налога.
— А кто сказал, что я беру деньги и имею доход? Даже Франция и Япония, кроме благодарности, ни франка, ни йены.
— Письма, дорогой Павел Андреевич, письма трудящихся.
Тогда Паша говорит:
— Это вы бросьте. Мне космос вообще запрещает платить налоги, иначе я потеряю дар, посланный мне свыше.
А эта, с налоговой, себя в зеркальце разглядывает, охорашивается, ломается:
— А мне начальство из края говорит, что и с доходов от космоса тоже надо платить, будь вы хоть шаман, хоть шарлатан.
— Я – шарлатан? – Удивился Паша.
— Ну, что вы, в самом деле, из себя Вольфа Мессинга строите?
Сама нагло крашеными глазищами таращится.
— Даже так! Хотите научный эксперимент? Вы не бойтесь.
— Ничего я не боюсь. И зря вы тратите на меня свой гипноз.
— А если я скажу, где сейчас ваш муж и чем он занимается?
Тут агентша засмущалась, но всё одно, фасон держит:
— Платите налог! А муж мой, между прочим, на работе у себя, в прокуратуре. Он ведёт уголовное расследование.
— Ох, и наивный вы человек, – говорит Паша. – Минуточку.
Закрыл глаза, облапил голову, побледнел, вспотел, говорит:
— Вам знакома разведённая гражданка Кудрявцева Валентина Сергеевна, бухгалтер ветстанции? Знаете, где она живёт?
Агентша побледнела, уставилась на Пашу. А тот спокойно:
— Вот телефон. Она в отпуске и сейчас дома. Звоните, а лучше – прямо к ней домой. Я через космос увидел, рядом с её домом «Жигулёнок», номер АБИ 23-48. Это, случаем, не вашего мужа? Могу даже сказать, чем они занимаются. Желаете?
Агентша как сквозанёт за дверь. И про декларацию забыла…
***
Подошла осень. Стали сдавать жилье и Паше выдали ордер. Квартиру он получил хорошую, с подветренной стороны, и огородище большущий. Это ли не счастье?! Тут и невеста-учителка объявилась. Губы раскатала: «Паша, я твоя. Бери меня замуж! Согласная на новую квартиру». Только Паша ей укорот сделал.
— Без квартиры я тебе был не люб. Когда хворал, ты в больнице даже глаз не казала, не то что какого гостинца принести. А раз так, вы гражданка ходите мимо этой квартиры.
Сразу же, не мешкая, оженился на Тамарке Востриковой.
И вот тут началось самое непонятное – сразу как обрезало. Что-то случилось с космосом. Отвернулся он от Паши. Враз пропал его дар экстрасенса и ясновидца. Характер у него стал какой-то собачий. Больных направляет в больницу, если что украдут – гонит в милицию. В деревне опять стали запирать двери, втихаря приворовывать, и деревня вздохнула свободно.
Конечно, кто поумней, те смекнули, как Паша лечил и ясновидничал. Квартира – дело серьезное, тут можно и поднапрячь дедукцию и извилины. Но вот одно непонятно: как он с Францией и Японией в самую точку попал?
Может, у него и был какой-то дар? Ему бы малость подучиться, может, и вышел бы из Паши настоящий Григорий Распутин.
Он и сейчас работает киномехаником. Ясно, что остепенился, а если у себя в будке тайком кого и лечит от бесплодия, то только тех, кто помоложе. И тайком.
ЧТО ПРИШЛО ПРОЦВЕСТЬ И УМЕРЕТЬ
Пути Господни мы не выбираем,
Лежат они промеж добра и зла.
М. Танич
О тех, кого мы любим
Виктор Семёнович (а вот фамилию называть не будем, чтобы не было кривотолков) работал председателем крупного колхоза, и тот гремел по всей области. У них – самая высокая урожайность зерновых, самые большие надои молока, потому, как дружили с наукой. Виктор Семёнович бывший фронтовик, вся грудь в орденах. Кроме того, был областным депутатом, но самое главное – был Героем Социалистического труда. Во как!
Со всеми руководителями главков, управлений и областным начальством был на короткой ноге и для района решал любые вопросы. Колхозники за него – всегда горой и доверяли во всём. Каждый год на общем собрании ему утверждали даже безотчётные суммы на всякие непредвиденные расходы, а это деньги немалые. Такое вообще бывает редко, но ему доверяли и знали, что к его рукам не прилипнет ни одна копейка. Не такой он был человек. Зато и отдача от этого была огромная.
Своих колхозников он уважал и не на словах, а на деле. Строил им дома, все были при хорошей зарплате, с зерном, сеном и топливом. Добывал им путёвки на лечение и пробивал любые бытовые вопросы. И что главное, для него не было разницы – кому он помогает, простой свинарке или главному агроному. Он помогал Человеку. Люди это видели и ценили.
Хоть и стыдно признаться, а раньше об этом вообще запретили бы говорить, уж больно щепетильная тема, тем более для Героя, но сейчас можно и мы расскажем. Был у него один грех – пил запоем! И не то, что день-другой, а неделями. Нет, он не валялся под заборами и не позорился. Уедет на пасеку, на заимку или завалится к зазнобе и гудит. Жена с ума сходит, звонит начальству: «Помогите!»
Секретарь райкома с начальником милиции отлавливают его, вяжут верёвками и два дня с ним отваживаются. На второй день верёвки ослабляли и продолжали отпаивать чаем с мёдом. В это время на них не действовали никакие его просьбы и уговоры, уже были учёные – загудит по-новой. Потом совсем распутывали и он дома ещё дня три отлёживался и приходил в себя.
Но зато как придёт в норму, тут и начинается! Все просто изумлялись. Чёрт его знает, но эти загулы придавали ему силы и ума. Он как бы старался реабилитировать себя в глазах людей. Что ты! Такие проекты и замыслы воплощал в жизнь, что трезвеннику и в голову не придёт.
Вдруг отправляет на БАМ бригаду с техникой и они бесплатно делают просеку под будущее полотно железной дороги. Все недоумевают: зачем? Поняли только тогда, когда в колхоз без всяких нарядов пошли вагоны с лесом. Построил огромный инкубатор с утятами-гусятами, кирпичный и комбикормовый заводы, развёл форелевое хозяйство. Были своя пасека, мельница, крупорушка, давили сами масло, сами делали гвозди и были три строительные бригады…
Что интересно, в первый же день после загула в кабинете мог чехвостить нерадивого колхозника. И как!
— Ах ты, пьяница! Ах ты, алкоголик! Негодяй! Ну что ты за мужик? Не умеешь ни пить, ни работать! Ещё раз повторится, выгоню с колхоза к чёртовой матери! Вон с моих глаз!
Пробовали его лечить в специальном заведении и тайком увозили в город на машине, а один раз даже на вертолёте. Но это было не только бесполезно, но и опасно. Он, как очухается и придёт в себя, так и разовьёт кипучую деятельность, это уже у него в крови, без дела сидеть не мог.
Тогда проблем хватало, вот он от нечего делать и начнёт помогать. За телефон – и по высоким знакомым. Глядишь и попёрли сюда новое оборудование: холодильники, телевизоры и медикаменты, трубы-краны для котельной, гвозди и краску … У медиков глаза и заблестели, а главврач уже с Виктором Семёновичем спиртиком балуются. И смех, и грех! Слаб человек!
Не брала его ни одна таблетка, ни одна антиалкогольная методика. И вдруг бросил пить! Совсем. Сперва не верили, всё ждали, вот-вот сорвётся. А он только посмеивался: «Не дождётесь!» И кто его вылечил? Если честно сказать, то не поверите – внучка Наташка, пятиклассница.
Как-то накануне её дня рождения вечером заявился к сыну. Попал к ужину, усадили и его. Выпил он чашку чая и говорит:
— Завтра еду в область на совещание. Что тебе, внученька, купить на день рождения? Шубку или магнитофон?
А та вдруг ни с того ни с сего заплакала, подхватилась и бегом в свою комнату. Дед за ней, стал тормошить. Она упала на кровать, уткнулась в подушку, захлёбывается слезами, а сама худенькая, плечики ходуном ходят, вся трясётся от рыданий.
— Да что случилось? Говори толком! Кто тебя обидел?
Наташка села, кулачками слёзы размазывает по мордашке, сама вздрагивает и сквозь слёзы выкрикивает:
— Ничего мне от тебя не надо! Уходи! Не хочу тебя видеть… мне за тебя стыдно… Понимаешь? Стыдно! Хоть в школу не ходи… ребята смеются надо мной… говорят, что ты пьяница со звездой… Даже в учительской говорили… а я тебя люблю… ты же мой дедушка… а ты… – Сама уставилась на деда заплаканными глазами и такая в них недетская обида, тоска и боль.
Его всё это как громом поразило. Сразу все большие дела, колхоз, деньги и награды, даже звезда Героя, показались такими маленькими и незначительными против того, что он сейчас увидел и услышал. Особенно его поразили её глаза. Они не столько остро полоснули по сердцу, как по сознанию и душе.
Он молча встал и, не прощаясь, ушёл. И всё. Вот уже семь лет прошло и ни одного срыва. Наташка уже учится в мединституте. Когда он по делам бывает в городе, то обязательно заезжает к ней в общежитие. В её комнатёнку студенты набиваются битком.
Что ты! Такой дед приехал, Герой! Ох и повезло Наташке. В этот вечер все и наговорятся досыта и наедятся до отвала. Студенты – самая голодная и прожорливая нация. А он уже их всех приучил: как только приезжает, так и собирает, едет-то не с пустыми руками.
Когда уезжает, то Наташка провожает его до машины. Заботливо укутает шею шарфом, поправит шапку или воротник. Обязательно поцелует деда и пожмёт руку. Ещё внимательно и серьёзно поглядят друг другу в глаза. И в этом пожатии и взгляде есть что-то такое, что знают только они двое.
Мамины розы
Праздник цветов – самый из любимых торжеств, что проводят в Покровке уже не первый раз. Это действительно чудесное зрелище. В деревне много любителей цветов, и к празднику они готовятся серьёзно, ревностно.
Где-то в августе в выходные дни фойе Дома культуры превращается в выставочный зал. По традиции вечером проводят ситцевый бал, и девчата шьют платья из цветных тканей. Всегда выбирается королева бала, ей вручают букет, а на голову – венок из цветов. Потом школьники все цветы из зала возлагают к памятнику погибшим землякам. Обычай хороший, собирается вся деревня, но это потом, а сейчас – время любителей цветов, определение победителей смотра.
Играет музыка, ребятня снуёт с мороженым и конфетами, зал переполнен, от обилия цветов и запахов голова идёт кругом. Идёт «цветочная комиссия», знатоки-ценители прекрасного, их слово – закон.
Интересно устроен человек: ведь и призы-то пустяковые, и большинство вообще ничего не получит, а идут, несут охапки цветов. Ну, посудите сами, какой женщине не польстит, если её принародно похвалят комиссия, подруги, соседи или просто незнакомые люди за мастерство и любовь к красоте.
Идёт комиссия, придирчиво разглядывает выставленные цветы, переговаривается между собой, оценивает, записывает.
Цветы везде: на столах, на полу, на подставках. Стоят в банках, вазах, кувшинах, в вёдрах и корзинах. Глаза разбегаются: гладиолусы, маки, каллы, астры, одних георгинов более двухсот разновидностей…
Особо отмечается умение оформить букет и, главное, чтоб его название соответствовало оформлению: «Любовь», «Для невесты», «Для моей бабушки», «Подарок любимой»…
Тон в «цветочной комиссии» задаёт Мария Сергеевна, страстная любительница цветов, у неё дома заблудишься среди георгинов и гладиолусов. Её слово в споре и суждениях весомое.
Вот уже и заканчивается обход, уже направились уходить, как Мария Сергеевна ахнула:
— Батюшки! Это что за прелесть? Да вы только поглядите! Ну-ка, ну-ка, иди сюда, ты чего там прячешься?
Все обернулись и тоже онемели от удивления.
У крайнего стола, оттиснутый давкой, у стены стоял парнишка лет семи-восьми. Стоял молча и было что-то трогательное и печальное во всей его фигуре. Особенно были грустными большие серьёзные глаза. В целлофановой обёртке он держал худенькой ручонкой розы. Было видно, что он не имеет понятия о составлении букета, но это было неважно, розы были просто изумительные. Для Сибири розы – не редкость, но уж больно хлопотное занятие, поэтому на выставке к ним всегда интерес, но таких ещё даже Мария Сергеевна не видела. Глянцевая зелень листьев, цветы крупные с пурпурно-красными лепестками да ещё с бархатным оттенком. А какой чудный аромат!
Цветы пошли по рукам, их разглядывали и искренне удивлялись. Потом дошла очередь и до самого хозяина.
— Мальчик, это твои розы?
— Наши.
— Ты, значит, тоже пришёл на выставку?
— Да.
— И ты знаешь, как они называются? Если знаешь – скажи.
— Мамины розы.
Переглянулись. Стали переговариваться, спорить:
— Кто-нибудь слышал о таком сорте? Нет?
— Да нет такого названия, – говорит Мария Сергеевна. – Есть сорта: Идальго, Мадам Дельбар, Глория Ден, Казахские юбилейные, Беккара, Фараон, а такого названия нет. Я-то знаю.
— Может, ты перепутал название сорта? – спрашивают у него.
— Нет. Это мамины розы, – упрямо повторил мальчик.
— Надо его порасспросить. Может, что путает.
— А ты сам местный?
— Да.
— Почему мама сама не пришла? Ей было бы приятно, её цветы лучшие.
— Она не может прийти.
— Почему?
Мальчик потупился, чуть слышно, одними губами прошептал:
— Мама умерла в прошлом году.
Наступила неловкая тишина. Всем как-то стало не по себе, как будто ненароком его обидели. И правда, в этой жизни всё перепутано: радость и печаль, возвышенная красота и суровая проза жизни.
— А как твоя фамилия? Как тебя зовут?
— Ситников. Саша Ситников.
-Слушайте, а это не нового агронома сын?
— Точно.
— Твоего папу Василием Николаевичем зовут?
— Да.
— А кто эти розы выращивает? Как вывели такие сорта?
— У нас мама этим занималась, куда-то посылки посылала, и ей присылали семена и черенки. Она, как и папа, агрономом была, вот и вывела. А теперь мы с папой за ними ходим.
— Папа твой, наверно, тоже любит цветы?
— Да. Сперва не очень, только маме помогал, теплицу сделал, шиповник копал и привозил, а как её не стало, он за ними ухаживает. Он говорит, что в этих розах – частичка мамы.
— Твоя мама, наверное, красивая была?
— Да.
— А ты ухаживаешь за цветами?
— Конечно, но больше папа. Он каждый вечер проводит там. Поливает и разговаривает с ними, любит их до слёз. Я видел. Ещё он сказал, что пока розы будут у нас расти, мама с нами.
Кто-то окликнул мальчика от двери фойе. Он обернулся и спешно направился к высокому мужчине в сером костюме.
— Точно, – загалдели женщины, – это новый агроном. Его зимой перевели к нам откуда-то из-под Кулунды.
Василий Николаевич нагнулся к сыну, что-то стал говорить. Мальчик согласно кивал, потом вернулся к женщинам, которые молча смотрели на них.
— Папа сказал, чтоб я подарил эти розы вам. И ещё он сказал, если кому нужны черенки или отводки, чтоб приходили осенью, – и побежал к отцу.
— Саша, постой. А приз?
Саша обернулся.
— Не надо. Мы же их не для этого растили.
Подошёл к отцу, тот взял его за руку и они не спеша двинулись к выходу. Шли два самых родных на земле человека, шли к своим живым розам, к живой памяти о родном третьем.
Воистину сказано: красота спасёт мир. И ещё наша память.
Северная птица
По распределению я попал работать на Дальний Восток и лет десять не был на родине. Присылает сестра письмо, просит приехать, она дочь замуж выдаёт, племянницу Иринку. Поехал.
Первые дни ходил по деревне как шальной. Стосковался. Березки, пригорки, речушка – всё будило в памяти прошлое и будоражило. Как водится, сходили на кладбище, помолчали, помянули родителей.
Жизнь в деревне идёт своим чередом. Уже и колхоза нет, а вместо него какой-то СПК. Из одноклассников одни в город подались, другие назад в деревню прут, переселенцы понаехали, беженцы.
Готовимся к свадьбе. Бабы колготятся, хлопочут. И нам нашлась работа, кур порубили, завалили поросенка. По родне собирали посуду, стулья. Вечером сестра Наталья говорит:
— Леша, сходи к Гришке, проведай, да заодно и на свадьбу позови. Ты не знаешь, его же судили, чуть срок не схлопотал.
— Да ты что?! Гришуху? Не может быть!
— Он сам и расскажет. Это всё из-за проклятой охоты.
С Гришкой – мы школьные корешки. Только после школы – я в институт, а он, как сел на трактор, так и пашет до сих пор.
Подхожу ко двору, забрехала собачушка, открывается летняя кухонька, а вот он и Гришуха. Ростом под два с лишком, загорелый, в майке и галошах на босу ногу. Веселый, такой же боевой.
— А-а! Это кто жа к нам приехавши? Кого жа мы имеем удовольствие видеть? – А сам руки-коряги нарастопашку да как облапит, да как закружит. Он всегда такой, с чудинкой.
На кухоньке и расположились. Жена его, Валентина, на стол собрала, посидели, поговорили. Верите, есть люди, от которых добро и здоровье черпаешь. Биополе какое-то около них, душу ласковым ветерком омывает и заряжаешься силой. Просидели до полуночи, всё вспоминали, расспрашивали друг друга.
Гляжу, а у него в уголке на тумбочке разложены охотничьи припасы: порох в банках, дробь, пыжи, патронташ.
— Вот, к охоте готовлюсь, видишь, патроны заряжаю.
— Слушай, Гриш, а что это мне Наталья говорила, будто бы ты чуть срок не схлопотал. Правда?
— Было дело. Еле-еле отвертелся, – Гришуха закурил, затянулся и продолжал: – Да сволочи они все. Законы всякие напридумывали, оно, может, и правильно, только эти законы для нас, сиволапых! Не веришь? Ну, посуди сам, я имею охотничий билет, плачу взносы, отрабатываю что положено, а лицензию на лося получить не могу. Не пойму: я здесь родился, живу, делаю зверью кормушки, с мужиками ставим стожки сена в бору, а стреляет дичь городское начальство. Во как!
— Может, это правильно, берегут живность? А то всё изведут.
— Может, и правильно, только кому-то лицензия есть, а нам нет. Где справедливость? Они в городе успевают и в театр, и на всякие выставки, и ещё у нас охотиться успевают. Мы живём в медвежьем углу, но охотиться не смей. Раз я попался с лосём, так по судам затаскали. Но если говорить про настоящего охотника, так это Фёдор Беляев, он теперь твой родич, со стороны жениха. Вот кто стрелял, так стрелял. Мы служили вместе.
Поверишь, решетил мишени в яблочко, выбивал только «десятки» и «девятки». Майор-огневик на стрельбах, руку набил, мастер спорта, а Федька его на спор шутя обходил. У него и отец всю жизнь по тайге шастал с ружьём и его поднатаскал.
— Надо будет с ним сходить на охоту.
— Опоздал ты. Не поверишь, но при таком таланте вдруг бросил охотиться. Уже несколько лет не видел его с ружьём.
— Почему?
— Чёрт его знает, не говорит, буркнет «надоело» и всё.
— А ты бы смог бросить охотиться? Вроде, тебя напугали судом, расходы, сейчас же всё дорого.
— Ну, нет. Пока могу ходить, охоту не брошу.
— И тебе не жалко этих лосей, уток, лисиц?
— Слушай, Леха, а ты котлетки любишь? Утку с яблоками ешь? Жена в лисьей шапке ходит? И не знаешь, откуда это берётся?
Гришка засмеялся и давай меня щекотать:
— У-тю-тю, глупенький несмышленыш! Это всё ружьями плохие дяди бух-бух, ножичками чик-чик, а ты, хорошенький, это всё на чистенькой тарелочке ням-ням!
— Нет, ты честно скажи, тебя не коробит, когда подойдёшь, а кругом кровища, и то, что минуту назад было живое, теплое, радовалось жизни, теперь корчится в предсмертных судорогах?
— Вон ты о чём. Ну, хорошо, вы все жалостливые и гуманные, а я злодей, живорез. А ты знаешь, что я всем соседям свиней и скотину режу, а здоровенные мужики боятся. Про детей и не говорю. Они от одного вида крови в обмороки падают и все кричат: «Нельзя детей жестокости учить!» Парню шестнадцать лет, а он курицу боится зарубить.
Ну, хорошо. Вырастет этот парниковый детеныш, его – в армию, автомат в руки и марш в «горячую точку», а там в живых людей надо стрелять. Не рассуждать о морали, а то домой повезут в цинковом гробу. Надо их мужиками воспитывать, учить не только, в какой руке держать вилку или нож, но ещё и как тем же ножом добывать то, что на столе можно вилкой поддеть.
— Всё это так, но это же, как бы помягче сказать, жестоко. Убивать живое.
— Запомни. Жестокость – есть необходимая, оправданная и глупая, звериная. Мы свиней, скот и птицу ради еды и держим. Да, жалко, особенно коров, резать, она тебе молоко, масло и мясо даёт, а ты её потом под нож. А вот когда в кочегарке прикормили зимой собачку, а потом, ради смеха, кинули в топку – это глупая, звериная жестокость. Или разборки с поножовщиной, и все эти мокрушники с киллерами – вот это жестокость. А охота – святое дело. Только не жадничай.
— Ну, ты и философ.
— Да-с! Мы ваших академиев не кончали, но кое-что кумекаем. Какая тут мораль? Ты погляди, что делается с людьми. Ведь звереют. Что там Афган, тут у себя разборки покруче: Карабах, Грузия, Чечня. В белокаменной из танков долбили по Верховному Совету, депутаты друг в друга стреляли. Это что?
А ты спрашиваешь, жалко ли утку? Жалко ли зверя? Жалко, когда всё под корень, а когда с умом да в меру, это не грех.
Ладно. Отыграли свадьбу. Неделю опохмелялись.
Познакомился я и с Фёдором. Мужик в моих годах, степенный, рассудительный. Меня так и подмывало порасспросить его про охоту и, главное, как такой стрелок враз обрубил концы. Нашёлся и предлог. Как родственники, поехали рыбачить на Плотаву. Кругом красотища такая, что дух захватывает. Озеро, камыш, по берегам березы толпятся. То и дело со свистом проносятся утки и даже не прячутся, а резвятся на чистоводье.
— Ты смотри, что делают, не боятся.
— Недолго им так гулять, скоро открытие охоты, – усмехнулся Фёдор, – только перья полетят, сразу поумнеют.
— Ты, говорят, одно время тоже охотился?
— Было дело, – неохотно ответил, встал и подбросил в костёр дров. – Потом бросил. И не жалею.
— Почему?
— Это долгая история. Отец работал в заготконторе штатным охотником-промысловиком и с десяти лет стал приучать меня к охоте. В двенадцать лет купил мне ружье, а в пятнадцать я всех переполошил: принёс с охоты рысь. Даже батя крякнул и в затылке почесал: «Ты вот что, паря, с этим делом поаккуратней».
Хотел он меня пристрастить к делу всерьёз и всё у меня получалось, но одного не мог переносить – одиночества.
Батя неделями пропадает, мёрзнет в лесу по своим избушкам, а я – от силы два-три дня и тянет к людям. Чему удивляться, молодой был. В деревне – кино, танцы, девчонки, а я, как сыч, при лампе со шкурами вожусь и на нарах корчусь.
После армии устроился шофёром в лесхоз, женился, пошли дети. Не успел оглянуться, а я уже трижды дед. Охоту не бросил, это, видать, в крови. Не любил больших компаний, особенно на открытии охоты, когда все перепьются и не то что стрелять, не помнят, где находятся. Разве это охота?
Обычно потемну заведу мотоцикл и к зорьке я уже на своём излюбленном озере. Отведу душу, а к обеду уже дома. Зараз по полсотни уток, а то и больше привозил. Жена даже сердилась: «Куда столько? Что с ними делать?»
С годами стал ходить на утку всё реже и вконец пристрастился бить гуся. Как только подожмут холода, идёт северная птица, надо только знать места перелёта и время. А кто лучше меня всё это знает? Птица устанет, падает на озеро. Отдыхает несколько дней, кормится, набирает силы, и тут – не зевай.
В тот памятный год всё шло как всегда. Была поздняя осень, то тучи, то солнце проглянет, и опять тучи. Снежок уже пролетает, холодно, но забережников ещё не было. Это самая подходящая погода для охоты. Среди озера на мелководье рос камыш, и птицу, как магнитом, тянуло туда, в затишок, да и подальше от берега. У меня всё было выверено. Как только лодка появится на виду, птица сразу снимается. Но чтоб ей взлететь, обязательно надо идти на ветер, а тут их мои два ствола ждут.
В тот день я намаялся, перемёрз, добыл двух гусей и с десяток крякв и уже засобирался домой, как над головой пронеслись большие белые птицы. Что за чудо? На гусей вроде не похожи. Батюшки! Да никак это лебеди!
Затрясся от азарта, в жар бросило, в кои-то века встретил такое чудо! Шестом отталкиваюсь от илистого дна, пробиваюсь сквозь осоку и камыш. Встал в рост, распахнул полы дождевика, и под этим парусом ветер погнал лодку на середину к камышам. Хитро придумано, ни шума, ни суеты. Стою, прикидываю, где они сели.
Вот они. Красавцы! Шеи изогнуты, как на картинке. Кликуны. Двое чуть потемней, это родители, стало быть. Рядом трое белоснежных первогодков, это дети. Чудно, семья летит на юг. Заметили, забеспокоились, захлопали крыльями и пошли на ветер. Тяжело поднимаются, птица грузная, раскрылатились, что полы моего дождевика, даже ещё больше.
Меня дрожь бьёт. Чую, что делаю что-то нехорошее, а поделать с собой ничего не могу — «ба-бах!» Два выстрела дуплетом и два тяжелых всплеска, и закачались на воде два красавца. Вот это удача!
Вижу, три оставшихся лебедя кружат над озером и с тоской курлычат, переговариваются по-своему. Покружились-покружились и сели опять на прежнее место. А меня как кто в спину пихает, опять в лодку и тем же манером бесшумно погнал к камышам. Подплываю, смотрю, а они сгрудились и так жалобно курлычат, вроде как жалуются.
Мне бы опомниться, а я чувствую, аж зубы оскалил от жадности и азарта. Приложился и полыхнул. Одним выстрелом всех и уложил. Они как раз сплылись и головенками вертят, жмутся друг к дружке и курлычат, ну, как плачут. А тут я их…
Лебедь – птица царственная, чудная, гордая, а как подплыл к ним, гляжу на воду, а там три бесформенных комка перьев с размозженными головами в розовой воде.
Много я перебил и зверя и дичи, а тут стало не по себе, засосало где-то. Дома Мария как взбесилась, ни разу её такой не видел: «Дурак! Что ты наделал? Грех-то какой на душу взял. Да я не то, что есть, пальцем к ним не притронусь. Жри ты их сам, подавись ими, раз ты такой ненасытный».
Батя жил рядом, через три дома. Смотрю, ввечеру и он притащился и туда же: «Не к добру это, паря. Зря ты их загубил. Разве я тебя этому учил? Не к добру, попомни моё слово».
Ладно. Проходит какое-то время и ждем мы Светку, дочь старшую, с семейством в отпуск. Со дня на день должна быть телеграмма, чтоб встречали. И дождались. Уже потемну как-то смотрим телевизор, а там страсти показывают, где-то опять авария, и тут с почты принесли телеграмму. Мария как глянула, грохнулась, как подкошенная, и зашлась в крике. Чую: недоброе, хватаю бумажку. А как увидел вверху красную полосу, а по ней «Правительственная», так. и у самого всё поплыло перед глазами. Читаю, перечитываю, а понять не могу, не доходит: «… необходимо срочно явиться Уфу адресу… иметь паспорт…»
Тут диктор по телевизору в который раз сообщает подробности катастрофы под Уфой. По нервам как бичом: «… поезд Новосибирск-Адлер и Адлер-Новосибирск… авария на участке газопровода… устанавливаются личности погибших… создана правительственная комиссия… обращаться по телефону…»
Ночью подняли всю родню на ноги. Бабы в голос ревут. Что? Как? Почему? А мы толком ничего не знаем. Быстренько собрались и ночью же в город. В аэропорту по телеграмме билеты купили без хлопот. Летим, а сердце сжимается от неизвестности. Что нас ждёт? Кого повезём домой, живых, покалеченных или, не дай Бог, цинковые гробы? Главное, что с детьми?
Столько я за эти часы передумал, что иногда всё происходящее казалось не реальностью, а сном. Судите сами, до чего нелепой оказалась ситуация: авария на газопроводе, котловина наполняется газом, который взорвётся от малейшей искры, и это случается не где-то в тайге, на болоте, а обязательно возле железной дороги. И не какой-нибудь товарняк сунулся в этот ад, а обязательно пассажирский поезд, и не один, а обязательно два встретились в этом месте. Что это? Случайность? Совпадение?
Мария от горя почернела, сидит, как деревянная, и молчит.
В аэропорту Уфы стоило только назвать таксисту адрес, а он уже знает, кто мы и зачем здесь.
— Вы по вызову? Кто у вас был в поезде?
— Дочь с зятем да трое детей, – говорит Мария, а у самой голос заискивающий, как будто если она расскажет этому парню, какие у нас хорошие дети и чудные внучата (Леночке уже десять лет, Вове семь, а Костику всего шесть), то всё обойдется. – Главное, не знаем, что с ними, хоть бы указали в телеграмме.
— Э-х, мамаша, видела бы ты, что оттуда везли. Тут не до подробностей. Больницы забиты, город третьи сутки на ногах. Желаю вам счастья, дай Бог, чтоб у вас всё обошлось. А деньги спрячьте, у нас не принято на чужом горе зарабатывать.
Наконец, приехали. Входим. Народищу! Такое только в фильмах про войну видел, когда бомбят вокзалы. Паника, все бегут, кричат, глаза безумные, с какой-то женщиной истерика, её успокаивают, шумят, спорят, плачут, требуют.
Помыкались мы по коридорам, нашли нужный кабинет. Подаю женщине телеграмму, паспорт. У самого сердце заходится от ужаса. Что она скажет? Господи! Отведи беду.
Давай она списки листать, а они подшиты в трех папках. Ищет среди погибших, пострадавших и живых. Чувствую, волос на голове шевелится. Нашла. Ну? Что? «Овчарова Светлана Федоровна, Овчаров Виктор Степанович. Живы, находятся в больнице. Вот адрес, езжайте туда, там все подробности узнаете».
У Марии нервы сдали, как закричит: «А дети? Что с детями? Где они?» – а сама в рёв.
Опять та давай рыться в бумагах, звонила по телефону, потом ушла куда-то. Минут через пять вернулась, в руках бумажка. «Не волнуйтесь, живы дети. Вот по этому адресу их найдёте, их разместили в 24-й школе».
Первым делом нашли больницу где-то на окраине города. Та же картина: народу уйма, в больницу не пускают, родственники виснут и лезут в окна, мешают работать, ни у кого толком ничего не узнать. Дождались, все-таки, узнали. У Светки перелом ключицы, сломано два ребра, порезы стеклом и небольшие ожоги. Зато Виктору досталось здорово, ожоги на спине страшные, он, оказывается, ребятишек одеялом закрывал, а сам горел. Состояние очень тяжёлое, лежит в реанимации.
Во мужик, я его как-то всерьез и не принимал. Инженер, очки, тихоня, а тут, смотри, как повёл себя. С ним повидаться нельзя, а вот к Светке пообещали назавтра пустить.
Вот и 24-я школа. Заходим. Вроде, потише, но гул стоит, как на вокзале. Народ снуёт туда-сюда, такая же бестолковщина. В спортзале стоят кровати, стулья, столы. Снуют военные, гражданские. Медики в халатах за ширмами легко раненым меняют окровавленные бинты. В углу гремят посудой, кормят всех подряд. Люди с красными повязками зачитывают какие-то списки, стараются перекричать весь этот шум.
Ходим, ищем своих внучат и вдруг возле стены на стульях заметили три головёнки… Ленка, зарёванная, прижимает к себе Вовку и Костика. Вовка всхлипывает, а Костик ревёт взахлеб. Рот перекошен, от слез мордашка опухла, мокрая, а сам аж подвывает: «Ма-ма, ма-ма…»
Мария, как сумасшедшая, кинулась к ним. Я стою, как вкопанный, а перед глазами – живые эти первогодки-лебеди и жалобно кличут родителей.
У меня что-то оборвалось внутри, слезы текут сами собой. Господи! Всё, как у них: и лебеди летели с Севера, и наши оттуда же, из Синегорья; у тех родителей не стало, и у наших жизнь на волоске.
Жена у меня умница, всё поняла, ни словом не упрекнула, только на виски показывает: «Федь, а ты ведь поседел».
Хоть в Бога я не верил, но до того был ошарашен случившимся, этой параллельностью событий, что в душе молил его помочь, и дал себе зарок. Обошлось, слава тебе, Господи.
Приехали домой. Я первым делом собрал весь свой охотничий припас – и на озеро. Заплыл на то место, где загубил лебедей, и утопил всё: и ружьё, и патронташ, и всю приспособу.
С тех пор, почитай пятый год, в руки ружья ни разу не брал. Вот так, брат. Не молюсь я и в церковь не хожу, а верю, брат, есть что-то свыше и не так все просто, как нам кажется.
Долго молчали. Фёдор спохватился:
— Давай, сват, ухи отведаем, а то я тебя совсем заговорил.
Потом, уже дома, я часто размышлял про эти охотничьи причуды. Гришка и стреляет хуже, судом пуганный, жена клянёт его охоту, а ведь не переубедишь бросить эту забаву. До мозга костей верит в свою философию рациональной жестокости. И взять Фёдора. Из-за этих лебедей мужик чуть не свихнулся и до конца дней своих навряд ли к ружью притронется.
Что интересно, каждый из них по-своему прав. Такова жизнь.
Горький хлеб сорок первого
Всю жизнь я проработала продавцом. И всегда чего-то не хватало: дефицитом были носки, соль, сахар, мыло, водка, жиры. Через время этими товарами заваливали магазины и склады.
Всё это, конечно плохо, но как-то обходились. Во время войны не хватало спичек, были трут и кремневое кресало, из них добывали огонь. Мыло привозили в лотках полужидкое и резали по норме струной, и его не хватало. Вместо него и шампуни голову мыли щёлоком из золы подсолнечника. При нехватке ткани даже умудрялись ребятишкам шить рубахи и штаны из… географических карт. У нас их было много, и вдруг враз растащили. Оказывается, их замачивали, бумагу сдирали, а ткань шла в дело. Ребятишки летом щеголяли в новых штанах и рубахах и даже хвастались: «У меня штаны из Америки!», «А у меня из Африки!»
Но был при мне такой дефицит, который я не забуду до конца жизни. Во время войны мне довелось работать в хлебном магазине. Казалось бы, в такое страшное и голодное время – это самое «сытное» место и мне бы только радоваться, да как бы не так. Это была ответственная работа для человека с крепкими нервами.
Хорошо помню, что в магазине всегда было холодно, углём тогда ещё не топили, всё дровами, а как началась война, их всегда не хватало. Дрова заготавливали сами, возили на чём придётся, сами же и рубили. Всё было на женских плечах, ещё помогали ребятишки, а какие из них помощники?
Хлеб возили на лошади, летом будка стояла на телеге, зимой – на санях. У всех на руках были хлебные карточки, и отпечатаны они были на такой же бумаге, на которой печатали деньги. Это чтобы карточки нельзя было подделать. Норма была такая: на эвакуированных и иждивенцев – по 150 грамм на человека в сутки, на работающих – по 250 грамм. Начальству из райисполкома и райкома партии – по 700 грамм, а начальнику НКВД и начальнику особого отдела при МТС к этой норме ещё раз в неделю – творог и сметана. Я же и ходила на ферму.
Хлеб выпекали из такого состава: половина из ячмённой, кукурузной и гороховой, а половина из ржаной муки. Хлеб выпекали весовой, булками около килограмма. Резала и вешала его с точностью до грамма. Отчётность была строгая все карточки наклеивала на лист бумаги и всё должно было сойтись. Кроме того, обязана была каждый день сдавать на пекарню крошки и фактуру о сдаче прикладывать к отчёту.
Местным было чуть полегче, обходились картошкой, молоком, помогали овощи с огорода: капуста, свекла, морковь… А вот с приезжими эвакуированными была беда, каждый день что-то случалось: то кто-то потерял хлебные карточки, то их украли, то поступили эвакуированные, а карточки им ещё не выдали. Плачут, просят, суют мне в окошко орущих грудничков. А как было больно глядеть на голодных ребятишек! Господи, не доведи ещё раз до такого!
Придут и часами стоят, глядят на хлеб, «едят глазами», а сами худющие, ручонки-ножонки, как прутики, и молчат. Сердце кровью обливается, ну чем помочь? У меня же все крошки на учёте. Это была пытка, и я себя чувствовала как виноватой.
С собой на обед приносила вареную картошку, подам им в окно несколько штук, а они её едят вместе с кожурой, а я гляжу и плачу. Ведь у меня тоже дети, и что такое голод, мы знали.
За то голодное военное время из-за хлеба в меня как продавца столько впиталось человеческого горя и боли, что я уже по прошествии полувека, если увижу на помойках куски хлеба, со мной становится плохо. На деревне это ещё не так заметно, тут цену хлеба знают, а вот когда бываю в городе у детей или знакомых и вижу, как чёрствый хлеб выбрасывают на свалку, а ребятишки гоняют краюху вместо футбола, у меня начинает болеть сердце.
Э-эх, милые! Не видели вы этих голодных глаз, не знаете, что такое голод, и не приведи Бог узнать, чтоб трястись над каждой крошкой. Это мы ели лебеду, жмых казался лакомством, пухли с голоду и работали.
Нет, не подумайте, что я призываю выдавать сейчас хлеб по карточкам. Боже упаси, я просто хочу, чтобы его уважали. А будет хлеб, тогда всё у нас будет.

 г. Барнаул, ул. Молодежная, 5
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5