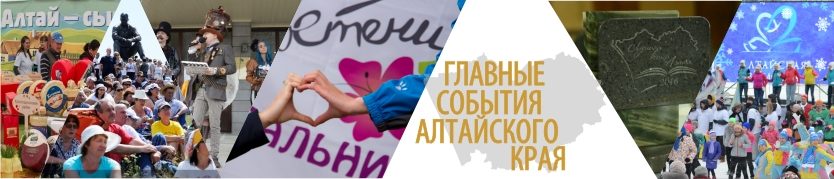Бузмаков С.В. ЛЕЛЯ
| Источник: Материалы переданы редакцией журнала «Алтай» |
ЛЕЛЯ Рассказ |
Сколько помню, в моем леле мне всегда нравилось, чего греха таить, его несерьезность. Потому, наверное, что эта черта лелиного характера позволяла надеяться и ждать: что-то новенькое он отчебучит. И леля, признаться, не обманывал моих ожиданий. Вот, к примеру, первое, пришедшее на память и относящееся к поре, когда я перешел, кажется, в класс восьмой. Мама пришла с работы на обед и сообщила:
— Лелька-то твой опять номер выкинул. Ограду у Мусориных повалил своим «танком». Ну, теперь его точно погонят с машины, бесшабашного.
Двоюродный брат мамы, старше ее на два года, леля был для нее постоянной мишенью упреков, но не злых, а сожалеющих.
Помолчав, мама со вздохом произносила то, что слышал я очень часто:
— Да когда же они (имелся в виду и мой отец) горло-то свое зальют, будет это когда или нет?
И, правда, протараненный штакетник и вставший на пути призрачной крепостью мусоринский курятник оказались последней каплей в чаше терпения совхозного начальства. Вспомнив свороченную водоколонку, замеченный обмен бензина на другую воспламеняющуюся жидкость и прочие грешки, водителя-наладчика машины «Техобслуживание», лелю, отправили сторожем на конюшню.
Ночами леля нес службу, а днем частенько захаживал в контору и на ехидные расспросы: как, мол, ему после машины? — беззаботно отвечал:
— А на хрена мне машина эта? Пешком — и себе, и деревне спокойнее.
— Это точно. Тут тебе, Алексеич, не Прохоровка, — подначивал лелю какой-нибудь местный острослов.
Леля никак не реагировал на это, всем своим видом показывая, что отвечать на подобное — ниже его достоинства, и произносил:
— Ну ладно, почешу-ка я к своим меринам.
Маленького росточку, худенький, по-мальчишески легкий на подъем, он не казался мне стариком. Хотя стариками были для меня все, кто прошел войну.
Впрочем, и на войну леля ушел тоже не без приключения. Шел 42-й. Леле только-только стукнуло 16. Работал он пастухом в колхозе, и случилась беда — сдохли сразу две лошади.
Председатель пинками приволок парнишку домой и сказал матери: «Либо корову взамен отдавайте, либо в тюрьму его упрячем». Без коровы семья, где ребятни куча, и в мирное-то время не потянет, а в войну? Леля в семье за старшего, а потому одно спасение — фронт. Леля котомку в руки и — сорок километров полями до райцентра. Прямиком к военкому — заберите в армию. И шмыг-шмыг носом, и слезы по щекам. Военком жалостливым мужиком оказался и сказал коротко: «Возвращайся домой и жди повестку».
Воевал леля танкистом. Судя по орденам и медалям (как и многие фронтовики, больше всего гордился медалью «За отвагу»), воевал лихо. Да, видно, еще и в счастливой рубахе родился: руки-ноги целы остались, никаких серьезных ранений. Горел ли в танке? На мой наивный вопрос отвечал с недоумением: «А кто ж не горел? Длинная она, падла, война, всякое бывало».
* * *
«На память сестренке Марусе от брата Леонида. 24 июля 1947 года». Передо мной фотография из семейного альбома. Смотрят с нее на меня мои мама и леля. Молодые, красивые. Лица, конечно, сосредоточенно напряженные, но и понятно — фотографировались в городском ателье. Мама в темном, с приподнятыми плечиками платье, главное украшение — большие, с инкрустацией пуговицы. Расчесанные на прямой пробор темные волосы. Две косы расплетены по тогдашней моде снизу и перекинуты на грудь. Моя двадцатилетняя мама. У лели волосы зачесаны назад. Верхние металлические пуговицы френча расстегнуты. Леля демонстрирует всему свету тельняшку — опять же по моде.
Перед ними вся жизнь! Что-то их ждет?
А вот другая фотография. «На долгую память сестре Маше от брата Леонида и Лены. 12 июля 1948 года». Размашистые, словно куда торопящиеся буквы лелиного почерка. Под стать и роспись: полтора десятка, не меньше, штормовых завитушек под шатром заглавной «П» — Попов. В легких, напрягшихся от ветра светлых одеждах стоят мои лели не где-нибудь, а на батумской набережной. В объектив попал и крутящийся у них под ногами какой-то аджарский песик.
* * *
Еще до войны леля порывался уехать из деревни — город ли манил, или уже сказывался непоседливый характер, но сделать это тогда было сложно. Ну а повидавшему пол-России и Европы танкисту два послевоенных года в деревне показались ссылкой. И укатил леля с молодой женой прямиком на Кавказ.
— Зачем-зачем? — леля всегда немного сердился, когда я лез к нему с расспросами. — Молодые были, свет посмотреть хотелось, как и всем. Чего непонятного-то?
Вспоминая кавказский свой период, леля почему-то упор всегда делал на следующее:
— А душно там, как в парнике! Мокрый вечно ходишь от пота. На водку, веришь, нет, смотреть неохота…
Работал там леля на шпалостроительном заводе.
— Дуб, бук — тяжелые, заразы, а шпала — шесть метров, попробуй переверни… Ниче, работали…
Под жарким кавказским солнцем родился у них и первенец Толик. Жить на Кавказе и тогда было дорогим удовольствием, к тому же обитали они там, снимая комнаты, словом, накушавшись, как выражался леля, «чурекских пирогов», решили возвращаться домой. А в долгом пути не раз вспоминали оставленный Кавказ. За Уралом была уже не виноградная осень, а сибирская зима.
— Сушить-то Толиковы пеленки негде, вот себя ими обмотаешь, они за ночь и высохнут. Так и доехали…
После этого не раз еще срывался леля с места, выбирая, правда, теперь маршруты покороче. Работал и на кузбасских шахтах, и проводником на томском поезде, и… где и кем он только не работал, мой неугомонный леля. Но пора было и честь знать — трое ребятишек, леля Лена со все более проявляющейся в форме гневных монологов склонностью к домоседству. Леля, «посмотревши свет», вернулся в родные места.
* * *
По возвращении из Заводоуковска встречали нас многочисленные родственники по маминой линии. Запомнилось, что, разглядывая, тормоша и тиская меня, все, как сговорившись, удивлялись тому, как я подрос. А больше всех колготился невысокий дядька со скуластым лицом, с непокорным вихорком на голове, в странных штанах-бутылочках — галифе, узнал я позже, предпочитал он всем другим фасонам и каким-то удивительным несоответствием густых, почти сросшихся и поначалу пугавших меня бровей, с широченной улыбкой. Мой леля.
— Ты посмотри, бабка, совсем большущий крестник наш стал, — леля в оценке меня тоже был не оригинален, однако пошел еще дальше. — Женить его пора, слышите, родители? Вон мы сейчас Гальку Безнигаеву и отдадим. Зови ее, бабка, давай, давай, веди на смотрины, только смотри, чтоб соплиутерла.
— Ой, ну чо мелешь, чо мелешь, болтун, — обрывала его леля Лена, — мальчонку смущаешь. Иди лучше свою «штаб-квартиру» готовь. Люди после дороги, в пыли все, а ты болтаешь помелом своим.
«Штаб-квартирой» леля называл баню. Там у него было неисчислимое множество потаенных мест с банками бражки. Туда он и увлек моего отца, прежде, правда, сделав узником конуры мутноглазого огромного Дозора.
Пока строился наш дом в Березовке, мы жили у лелей в Сосновке. Начинавший однорядную улицу по соседству с конторой и магазином осанистый квадратный дом их был оштукатурен снаружи, что являлось редкостью среди открыто-бревенчатых или же обшитых досками деревенских собратьев. Дом был побелен раствором золы в спокойный молочно-серый цвет, будто с целью хоть этим как-то повлиять на лелин характер. А внутри стены и потолки трех просторных комнат и кухни были нежно-голубоватыми. На подоконниках стояли горшки с цветами. И веселили взгляд пестрые домотканые половички.
В самый первый день пребывания нашего в лелином доме сделал я для себя одно открытие. Оказывается, как замечательно пахнет свежеиспеченный домашний хлеб! В магазине леля Лена хлеб покупала редко, да и то только серый для прожорливого — попробуй столько полай! — Дозора.
Домашний хлеб, выпеченный золотыми руками лели Лены! Не хочешь есть, а добрый ломоть с кружкой Зорькиного молока обязательно уплетешь!
А еще запомнилось, как вечером того же первого деревенского дня, в самый разгар застольного веселья, леля вскочил из-за стола, снял с шифоньера и подал мне глиняную игрушку. Сидит на пенечке солдат в стянутой ремнем гимнастерке, фуражка лихо сдвинута набок, на коленях широко развернутая гармошка. Веселый парень, ничего не скажешь. Сразу мне понравился.
— Василий Теркин, — сказал леля.
Он покопался в небольшом ящичке и осторожно извлек оттуда крохотную, тонко скрученную бумажку. Укрепил ее в уголке теркинского рта, зажег спичку, и гармонист Вася Теркин стал попыхивать ею, пуская вверх колечки дыма.
Восторгу моему и лелиному не было предела!
— Еще штук пять таких папиросок осталось, — с сожалением произнес леля.
— Дитя и дитя малое. В магазине купил недавно. Почти четыре рубля стоит, — смеясь, жаловалась маме леля Лена. — Я уж ему говорю, ты бы еще велик трехколесный купил — на работу ездить.
* * *
В деревнях-соседках Березовке и Сосновке было много стариков и старух, а это, известное дело, верный признак деревни не захудалой. Старушки собирались по-девичьи кучками, сидели на лавочках. Стоило мне, бегая с новыми друзьями по улице, появиться вблизи их, как они подзывали меня и норовили выведать, как жилось нам там, откуда мы приехали, много ли денег получал папа, зная, впрочем, все гораздо лучше меня. А когда наскучит им сидеть на лавочке, шли в избу к кому-нибудь, где сноха не злая, и играли, шумно споря, «на копеечку» в «дурачка».
Познакомился я и с бабушкой Симбирихой — древней совсем старухой. Сгорбившись и выставив палочку перед собою, сидит она не шелохнется. Что-нибудь спросят у нее соседки по лавочке, повторят громче, она встрепенется: «Ась?» А старушки уже дальше беседу плетут да еще одернут задававшую вопрос: «Чо спрашивашь у нее, глухомани-то?» Симбириху до недавнего времени всегда звали крестить младенцев — лучше всех знала она молитвы. Как рассказывала мама, погружала она и меня.
Вообще, представляется мне теперь, тогда, в начале семидесятых, русская деревня неспешно, но выпрямлялась после «микиткиных» чудачеств. Чуткая душа ее в то время осиливала упрямо, без ропота и шума и последнюю насильственную фантазию — строительство кирпичных двухэтажных многоквартирных домов. Появлялись новые улицы — прямые, словно по веревочке спланированные. И уже то тут, то там возникали и снисходительно посматривали на колодезные журавли телевизионные антенны.
Глушила деревня и водку, сильно, особенно в межсезонье. Широко, по-русски устраивались еще, помню, гулянки на полдеревни. И был еще, был, оставался покуда запасец того невыразимого в словах деревенского единения, столь трудного, прежде всего в радости. Глушила водку, но еще и берегла, цеплялась за ту норму, когда пропойца лютый или же лодырь никак себя героем почувствовать не мог.
А разбирая ящиками «белую» и «огнетушители», словно пыталась старательно и сознательно загнать в кромешную тьму свои неторопливые, требующие непременной ясности и простоты крестьянские думы. Но как не увиливай, как не венчай ведьму с ангелом, а думы не утешали, выводя к тревожному ответу. Глушила водку, но и работала деревня, да как работала!
Посреди же этих двух, занимавших большую часть времени дел как-то исподволь крепчало и организовывалось, приобретая все новых и новых участников, веселящее, порой даже этакое развлекательное занятие. Уже не жали, не самодурничали явно «наверху». И деревенское начальство смотрело на это сквозь пальцы, давая возможность поворовывать из совхозно-колхозного добра, впрочем, неусыпно следя и за соблюдением своеобразного устава: всем ловким понемножку, нам, само собой, побольше. И впереди еще было то, что похерило запасец и норму, поистрепало стойкие на соблазн деревенские души, ударило коварно поддых и оставило в растерянности и боли…
* * *
…Жаркий полдень того первого деревенского лета. Купаться меня сестры не взяли — видите ли, я раскидал по комнатам, с частичными пропажами, коллекцию фотооткрыток артистов кино, — и я сижу на пахнущем прогретыми досками крыльце. Караулю воробьев. Они любят возиться и ссориться в кленах, даже несмотря на мои метания в них камешками.
Из сеней с кружкой выходит леля.
— Ты своим дружкам, Яшке и этому шпингалету Смирновскому, передай: крапива их ждет-дожидается, — как бы убеждая себя, леля добавляет: — Это точно они. Я когда закидывал, они у мостика ныряли. Больше некому.
Произнося это, он успевает допить квас, бросить Дозору кусок хлеба и довести до сердечного приступа забравшуюся на крыльцо любопытную несушку.
У лели кто-то «увел» мордушку. Это вторая подобная пропажа за последние дни. И он просчитывает варианты, используя при этом прием психологической атаки. Ловлю же удочкой леля считает делом несерьезным и скучным.
— Все, бабка, я побег! — кричит леля в дом. — Вечером, эта… попозжа приду. Терновым сено метать будем, а завтра нам привезем, слышь?
— Давай, давай, опять налижешься, — доносится голос лели Лены.
— А сегодня как раз и не грех, да, крестник? — шепотом говорит леля и подмигивает. — Ты не забудь, насчет крапивы передай.
С крыльца я вижу, как меняет он маршрут, ведущий на мехток, где работает, и делает плавный заворот к магазину.
Забегал он домой, узнав от учетчицы, что пришло письмо от Толика. Старший лелин сын служит в Германии танкистом, как и отец. Осенью должен прийти. Другой сын, Леша, уехал поступать в военное училище в Орджоникидзе, а младшая Люда перешла в десятый класс.
* * *
Толик… В горнице лелиного дома стояла на столе его фотография, присланная из армии. Мягкие, материнские черты лица, застенчивая улыбка, ямочка на подбородке, а на широких плечах погоны с тремя полосками. Сержант! Танкист! Надо ли говорить, как я ждал возвращения Толика.
Поздней осенью, когда мы обживали новый дом в Березовке, к нам забежала из школы Люда и сообщила, что Толик вернулся.
Была, помнится, суббота, по деревне витал запах топившихся бань. Всю дорогу, пока шли-бежали с родителями к лелям, колотилось мое сердечко. А когда пришли и узнал я среди толпившихся в ограде парней Толика, в армейском кителе со значками, то оробел. Мама подтолкнула: «Ну, иди, поздоровайся…» Я, заплетаясь ногами, подошел и, потупившись, буркнул под нос: «Здрасьте». И взлетел высоко-высоко в сильных руках!
А вечером в доме у лелей было много народу и не было конца-краю разговорам и воспоминаниям, песням и смеху! А когда засобирались домой, меня, после недолгих уговоров, оставили ночевать у лелей, и легли мы вместе с Толиком. И за его рассказами о службе и моими историями-приключениями мы долго не могли заснуть.
* * *
…Звезды на небе высыпали густо. Тихо-тихо кругом. Даже близкий, в полусотне шагов, бор, в легонькой, еще белой кепке, примолк.
Мы с папой вышли проводить лелю с Толиком и стоим у нашей калитки. Сегодня папа и Толик ходили на охоту. Принесли русака к моему дню рождения.
— Попрет сейчас морозец, да и пора уж. Ты смотри, нос свой, римского папы, береги, — посмеивается над отцом леля.
Такую характеристику немаловажной части лица придумал сам отец, когда подтрунивает над курносостью мамы.
— С Рубейкиным в следующий раз пойдешь? — интересуется у папы леля.
— Так не с тобой же, охотник хренов. Тебе только за сусликами с ведром гоняться, — насмешничает в свою очередь отец.
Однажды папин напарник по охоте Степан Рубейкин, на удивление выносливый для семидесяти годков старик, приболел, и отец взял с собой «на зайца» лелю. Вернулись они налегке и необычайно рано — к обеду. Отец — злой-презлой, леля — хорохористо-виноватый.
Позже отец рассказывал:
— Пошли мы, значит, к дамбе, до нее всего-то, считай, километров пятнадцать, а он у второй бригады уже давай привал устраивать. Половины не прошли… Ладно, думаю, давай здесь, танкист, в тальнике пошерстим. Зашел я, значит, с той стороны — беляк, на дурака! Я гоню на него, — пренебрежительный жест в сторону сидящего рядом и пытающегося вносить коррективы в папин рассказ лелю. — Ну, он и жахнул с перепугу без наводчика-то метра на три в сторону, да еще перезаряжал с полчаса…
И оба они смеются.
…Завтра Толик уезжает в город. Будет там работать на заводе. Он уже ездил устраиваться, и ему дали место в общежитии. Мама мне сказала, что там, в городе, у Толика живет невеста, тоже из наших мест. Ну и что? Из-за этого уезжать? Решительно я ничего не понимал и потому дулся весь вечер на Толика.
— Ну что ты, Сергунок? Давай-ка прием покажи, какой с тобой учили, — Толик натягивает мне на лоб шапку и тормошит за плечи. Видя бесполезность этого, говорит как-то умоляюще:
— Я клюшку настоящую тебе привезу, хочешь? Будешь тогда больше всех забивать. Хорошо?
Киваю, а в носу и горле все равно першит. Так славно с Толиком было.
— Макаровские мужики вчера в МТМ приезжали, рассказывали, у них волки появились, — говорит, докуривая «Беломор», отец.
— Слышал, — леля усмехается. — Давненько серых в наших краях не было. Это, видно, новый объездчик мосихинский к нам их направил. Если в Макарове появились, значит, и сюда придут.
Я прислушиваюсь к их разговору, и как-то жутковато бодряще мне становится. Кажется, и бор уже не молчит. Да, конечно же, шумит таинственно и зловеще! То не волчьи ли голоса?..
* * *
…Весна была с ленцой.
Вспыхнула радостным солнцем, согнала сосульками снег с крыши и запропала куда-то. Начало апреля уже, а снег, как показывают мои «барометры» — воткнутые в сугробы прутики, — тает по миллиметру в день.
Новехонький скворечник по-прежнему пуст. Посматриваю на него уныло и не спеша, углубляю в ограде канавки: защищаю погреб от талой воды, но ее совсем немного.
На это мое занятие время от времени прилетают поглазеть вороны. Усаживаются на высокий серо-занозистый забор, посидят немного молча и начинают каркать. Тогда я отгоняю их снежками.
Мамы почему-то еще нет с работы. Хотя рабочий день в бухгалтерии заканчивается ровно в шесть часов двенадцать минут. А сейчас, я заглядывал в дом, около семи.
Наконец замечаю издалека ее вместе с папой и бегу их встречать. Они, вижу сразу, чем-то расстроены. Берут меня за руки, и мы идем домой. По дороге мама говорит, что Толик лежит в больнице. Возле его общежития была какая-то драка. Толик с парнями выбежал разнимать, и его ударили чем-то по голове.
Лели уехали в город и позвонили маме на работу из больницы: «Толик в реанимации». Слово это — «реанимация» — мне совсем не нравится, и мама произносит его с испугом.
Затем, помню, наша классная ловит меня на перемене за рукав и вместо того чтобы сделать замечание, тихо говорит: «Собирай портфель и иди домой. Толик умер».
…Апрельский вечер 1973 года. Всю округу заполонили запахи разбухших березовых почек и прошлогодней, сухой уже на припеках травы. Токует вечер утихающим скворешным гамом с подходящей ночью.
У лелиной ограды стоял народ. Бабушки то и дело повторяли друг дружке: «Не пил ведь, не курил… О здоровьице всегда спросит… А вот оно так — сволочей разных земля носит, а хороших-то… Он ить в понедельник, сердешный, умер? Вот ночью ветрище с дождиком и был. Плакала погодка-то по нему».
Но вот родился в тишине, становясь все ближе и ближе звук папиного трактора, тащившего по распутице грузовик с гробом. И ударили резко и страшно фары с того, дальнего, конца улицы, сделав ее беззащитно голой. Кто-то из женщин заплакал, потом еще и еще.
Я стоял с плачущими сестрами, и когда трактор, преодолев последние метры, остановился у ворот и затих, не выключая фар, ослепленный ими я заплакал, сначала тихо и обреченно, затем зарыдал во весь голос и затряс кулачком, что-то выкрикивая, кому-то грозя и почему-то выпячивая грудь перед этим зловещим снопом искусственного света.
Целую неделю, цепляясь за жизнь, не хотел уходить в двадцать с небольшим лет из этого мира Толик. Он так и не пришел в себя и не увидел почерневшее лицо лели Лены. Позже врачи сказали, что шансов спасти этого красивого, стройного парня не было сразу. Ударили Толика со страшной силой сзади, по-волчьи, четырехгранной ножкой от стола. Как ненавистны мне с тех пор эти ножки!
Именно после Толиной смерти, первой виденной мною в этой жизни, как-то незаметно ушла от меня детская мечта, что найду я когда-нибудь волшебную палочку. И исполнит она для меня три желания. И первое из них, конечно же, чтобы все, кого я люблю, жили вечно.
* * *
Грустно, что ни говори, становится, когда ловишь себя невзначай на мысли, что память о прошедшем измеряется уже десятками лет. Давно уже мы уехали из деревни. Сначала я, поступив в институт, потом мои родители. Много лет, как умерла в страшных муках от рака моя мама. Подрастают, тоже со своими потаенными сказочными мечтами, мои дочери. В минуты, часы изъедающих тебя уныния или отчаяния ими, своими курносыми непоседами, только и защищаешься от греховной мысли.
Ради них и надо жить — простая и, пожалуй, единственная истина на свете.
За эти годы не стал я и, даст Бог, никогда не стану настоящим горожанином.
— Городские, леший бы вас побрал, — поругивается леля, когда в свои приезды в деревню останавливаюсь у них. — Все что-то зудится у вас. Башки набекрень, и порядка никакого. Слушай-ка, вот ты мне, крестник, объясни, как это получается? Лешка мой двадцать лет на Украине отслужил, а здесь его не прописывают? Паспорт, говорят, не наш. Как это не наш? Он, стало быть, мне не сын, если я его у себя прописать не могу, а? Вот ты на своем радиво про это и пропиши! А то слушаешь, балаболите все, балаболите…
— Ну чо ты к нему пристал, чо пристал? Он, что ли, виноват? У него свое начальство, — заступается за меня леля Лена. — У самого башка дурная, так нечего на людей пенять. Подай мне, вон, лучше полотенец. Да не этот! Вон, у рукомойника.
Леля Лена уже лет пять передвигается на костылях — запущенный остеохондроз. Одно время, помню, все надеялась на Кашпировского.
— Я вот, Сереженька, иной раз лежу ночью и начинаю считать, кто у нас в деревне в последнее времечко умер. Возьми только на нашей улице… Люся Безнигаева — раз, Коля Плотников, Рачева, сын старший, Феша Самохина… И все ведь молодые умирают, до пенсии не живут. Все ведь кругом поотравили, вот и рак этот… А Юра Рыбин… Тому и вовсе сорок с небольшим. Толин ровесник…
Слушаю ее, наблюдаю, как выдвигает она, сидя на табуретке, из русской печи каравай, и кажется мне, что этими ночными своими думами пытается она хоть как-то утихомирить, привести в некое равновесие память о Толике.
— А он ведь каждый Божий день пьет, — продолжает она, воспользовавшись тем, что леля выбегает в сени за маслом. — Да еще какой злой стал. Поверишь, Сережа, чуть что, кулаками машет, того и гляди ударит. Люди-то к смерти, наоборот, образумятся, а он еще хлеще. И пенсию ведь хорошую получает как фронтовик. Не то что у других. И каждый день бутылочка, а то и две. Весной в погреб полез пьяный да свалился с лестницы. Ногу ломал, месяц в гипсе в магазин скакал…
— Чего говоришь, бабка? Про меня, что ли? — весело спрашивает леля, возвращаясь. — Ты ее, крестник, не слушай. Она тут такую агитацию разведет! Не хуже Горбача с Ельциным. Ты давай на стол лучше ставь.
— Ты только посмотри на него! Хоть бы людей постеснялся.
— А нам чо, мы люди простые.
После ужина я выхожу в ограду. Накручивая круги и громыхая цепью, косится на меня Дозор Третий. С мехтока доносится гул барабанов. Август доживает свои последние деньки. Печально задумалась о чем-то молоденькая застенчивая рябинка. В палисаднике мерно раскачиваются долговязые мальвы. Клонятся к земле пурпурными папахами георгины. И лишь все так же шумят и спорят в кленах сварливые воробьи.
Сейчас я вернусь в родной лелин дом. И, наверное, опять всю ночь буду ворочаться, вспоминать, но под утро все же усну. А проснувшись, первым делом посмотрю на шифоньер. Вот он, Вася Теркин. Все так же сидит на пенечке, удально развернув гармошку, и задорно мне подмигивает.

 г. Барнаул, ул. Молодежная, 5
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5