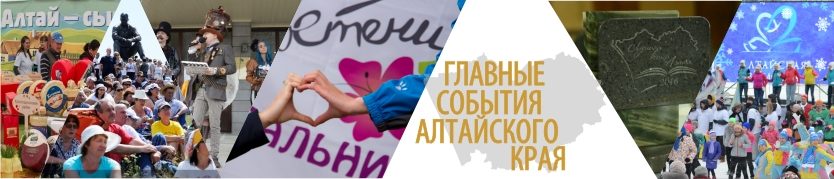Бузмаков С.В. МЕЖ БЕРЕЗ И СОСЕН
| Источник: Материалы переданы Алтайской краевой общественной писательской организацией |
МЕЖ БЕРЕЗ И СОСЕН Рассказ |
…Село, куда мы вернулись семьей из Заводоуковска, название имело простое и более чем распространенное – Березовка. По сравнению с другими деревнями нашей округи считалось молодым. Основали его в 1921 году переселенцы из деревни Куликово, что по ту сторону Кулундинского бора.
Протянулся бор сосновой лентой в 5-7 километров шириною, вдаль на сотни верст. А по бокам его – деревни примостились. Бор – это жизнь, бор – это друг, помощник в беде, отрада и веселье, к себе позовет, на любую полянку присесть предложит, хвойным воздухом напоит, то вдруг начнет, шумно вздыхая, о себе рассказывать, историями вековыми делиться. Сиди и слушай – нет ничего лучше.
Ровна лента бора тянется, да с заступами. Шел бор, вышагивал, да то ли вдаль засмотрелся, а может, прикорнул чуток, неведомо сейчас, да только отпустил своих младенцев, а тем того и надо. Убегут в сторону на сотню шагов, а то и больше, заиграются, да и останутся здесь, поселившись кучно, а в соседи к себе стайку березок ласковых да напевных позовут. Ну, а кудрявые красавицы все больше с юга любят к соснячку-отступнику примащиваться, с теплой сторонушки.
Люди, из Куликово пришедшие, сначала другую деревеньку основали – Сосновку, тремя годами раньше Березовки. Через боровой заступ от Сосновки к Березовке постепенно дорогу проложили. Прорубили просеку, насыпь невысокую сделали, утрамбовали крепкими крестьянскими пятками в частые гостевые хождения, тележными колесами дорогу накатали.
В целинную эпопею стала Березовка разрастаться, много народу с России и Украины понаехало. Большинство гнездышки здесь и свили. А в 1959 году березовское отделение конного завода № 39 выделилось в самостоятельное хозяйство. И стала Березовка центральной усадьбой зернового хозяйства совхоза «Свет Октября». Центральная усадьба, значит, и контора здесь, и сельсовет, и детский садик, и прочие прелести хозяев. Ну, а коль совхоз, значит и отделения должны быть подчиняющиеся. Ближайшая соседушка Сосновка – раз, от нее в десятке километров деревня Макарово, деревня из кержаков-пасечников – два, а третья родственница новоявленная – Вознесенка, самая маленькая и захудаленькая. Она от Березовки в другую сторону на десяток километров. Вот такой размашистый совхоз образовался. Землицы навалом, тракторов «ДТ-54» понагнали, работай, только не ленись.
Повезло в те годы совхозу и с директором. Красковский его фамилия. И по сию пору старожилы его добрым словом вспоминают. Крупный, здоровый, энергичный, взгляд, говорят, тяжелый был, коли провинишься, этим самым взглядом испепеляет, да еще словцом крепким твой прах развеет. Агроном по специальности, местный, из здешних, помимо бережного обхождения с землицей, он в хозяйстве и строительство большое затеял. Накануне моего появления на свет, в 1964 году, школу открыли. Двухэтажная, кирпичная, такая лишь в райцентре в ту пору имелась. Здание детского сада тоже из двух этажей, из кирпича, двух цветов стали строить и дома двухэтажные. Целых два возвели, успели. Правда, по нутру они народу местному не пришлись – ну что за жилье для деревни, когда рядом маломальского огородца не имеется, не говоря уж про сараюшки с хрюшками. Заложили при Николае Давыдовиче Красковском и фундамент большущего Дома культуры, рядом парк с обелиском в память о погибших земляках в Великую Отечественную войну. А еще под стадион ровную большую поляну нашли. Мехток, коровники новые… Конечно, понимаю сейчас, повезло Николаю Давыдовичу со временем. После хрущевских похмельных экспериментов снизошла манной небесной на село русское косыгинская реформа. Как вершина всей стройки реформаторской, уж, по крайней мере, для совхоза «Свет Октября» — открытие к 50-летию Великой Октябрьской революции своей электростанции. С пяти утра и до двенадцати ночи тарахтели движки, даря электричество моим землякам. И так было до 1973 года. Потом уже подключился совхоз к высоковольтной линии. И стал с той поры свет в совхозе «Свет Октября» круглосуточным.
Был Николай Давыдович настоящим хозяином, что редкость, замечу, в наших местах. А еще человеком слова. Приходит, к примеру, к нему работяга, ну, а с чем к начальству ходят? – понятное дело, с проблемами, просьбами, так, мол, и так, помоги, Давыдович. Выслушает хозяин совхоза внимательно, в суть дела вникнет и, если нет явной корысти в просьбе и если просящий не лентяй и не забулдыга, то поможет обязательно. Было у Николая Давыдовича и любимое место отдыха, — на бережку речки Черемшанки, километрах в пятнадцати от Березовки. Еще при его жизни прозвали земляки это место «дачей Красковского» и по сию пору название сохранилось.
Будучи человеком своевольным, Николай Давыдович не слишком церемонился с районными начальниками, коих, как известно, всегда хватало. Но вот как-то случилось побывать в вотчине Красковского какому-то представителю из крайкома партии. Работу директора он оценил, по возвращении в стольный град Барнаул доложил кому надо. И через полгода забрали Николая Давыдовича на повышение – директорствовать в одном из крупных перспективных хозяйств пригородного района. Казалось бы, ждет Николая Давыдовича путь славный в смысле карьеры, но… Тут мне остается предполагать, домысливать, почему он спустя год вернулся в наш совхоз. Кто сейчас об этом расскажет? А поруководил после возвращения недолго. Не зря говорится, что нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Как-то по весне он искупался в пруду, а купаться Николай Давыдович начинал еще, когда лед не сошел, искупался, и прихватило сердце. Тут же на берегу он и умер. Опять же, по воспоминаниям земляков, после возвращения из пригородного хозяйства стал он крепко поддавать. И в тот последний для него апрельский день 1969 года полез он в воду после бутылки коньяка.
А купался он в одном из прудов, каскад которых сам и организовал. Дело в том, что в местах наших, куда мы вернулись из городка на речке Ук, речек поблизости не было. Кулунда протекала по ту сторону бора, а речка Черемшанка и вовсе в двух десятках километрах от нас сторонилась. Хотя воды в нашем северо-западном, «гнилом углу» всегда было вдоволь. Весной устремлялась она с возвышенностей в середину «тарелки» — так поначалу Березовку называли, походило это место рельефом на такую посудину, устремлялась ручейками, ручьями, а затем и вовсе мутными потоками, образовывала обширные водные глади. Много бед причиняла, и много матов слышали окрестности в связи с этим. Но лишь светлая голова директора Красковского уразумела, что это ежегодное весеннее нахальство воды необходимо упорядочить. Так появился у нас верхний пруд, называемый Нефтебазой, потому как рядом была заправка, потом Сосновский пруд, совсем небольшой, промежуточный и в ту пору, когда мы вернулись, уже стремительно зараставший камышатником, и понырять в нем мне не успелось, наконец, пруд с не слишком ласкающим слух названием – Псина. Это пруд самый большой, по весне в бор заходящий и подтапливающий сосновские огороды. Псина просто кишела усатыми пескарями, с радостью заглатывающими и голый крючок, в промежуточном пруду властвовали лягушки, зато на верхнем, на Нефтебазе, шел довольно приличный карась, ну и, конечно же, столь же мудрый, как пескарь, жирный гольян.
Сотворив каскад прудов, позаботился Николай Давыдович Красковский и об укреплении дамб, плотин по-нашему. Особенно внушительно смотрелась плотина нефтебазовская.
Пруды также можно смело отнести к заслугам Николая Давыдовича, светлую память о себе оставившего. После него насели на совхоз «временщики», про которых отец говорил: «Приехал с одной подушкой, уехал с двумя машинами вещей».
Вернувшись на родину, мама устроилась работать в бухгалтерию, а именно стала оператором машинно-счетной станции, занимавшей комнатку в совхозной конторе, двухэтажном здании с темным коридором на первом этаже (свет заслоняли заросли кленов у окон) и скрипучими половицами. В комнатке теснились три письменных стола, на одном из них громоздилась счетная машина. Помнится, лишь однажды довелось мне наблюдать, как эта машина работала, распечатывая какие-то столбцы цифр. Шуму, скрежета от движущейся справо-налево и наоборот каретки было на всю контору. Операторы, в том числе и мама, были в этот момент взволнованно напряжены, а дверь в комнатку на всякий случай распахнули. По всей видимости, ломался этот прообраз современного компьютера гораздо чаще, чем следовало, и сколько я ни забегал к маме на работу, видел одно и то же: покоящееся железное тело под чехлом, словно под саваном. А потому главный рабочий инструмент у мамы и ее коллег оставался прежним – счеты. Стук деревянных колечек друг о друга то густо-тяжелый, когда по железным дугам отправлялось в арифметическое путешествие сразу несколько кругляшей, то звонкий щелчок одиночки о неприступную стену деревянных близнецов – стук этот перестук – мелодия бухгалтерского труда – одно из самых памятных впечатлений в моем детстве. Ведь мама очень часто брала, как говорила она, «работу на дом» — и дома у нас на стене висела не гитара, а счеты. Как и треск, переходящий в тарахтенье, и, наконец, рев при запуске тракторного двигателя, с синими хлопками из одной из труб, словно, прокашливаясь после сна, пробуждается богатырь, прочищающий легкие, заходится в злом кашле, но и победно ревет, вот, мол, я готов к труду!
Отец по возвращении попробовал было вновь влиться в спаянно-споенный коллектив совхозной строительной бригады. Но после того, как к осени собрали перевезенный из самоликвидировавшегося поселка под бодрым названием Батрак ставший нашим дом, из крепких, хотя, понятное дело, серого цвета бревен, папа под маминым нажимом устроился работать механизатором в сосновское отделение совхоза. Дали ему новехонький «Т-4», называемый народом «Алтайцем», так как производились эти машины в Рубцовске. «Алтаец», — это еще и из патриотических чувств, в пику «Казахстанцу» — такое прозвище имел трактор «ДТ-75» павлодарского производства.
«Казахстанец», надо признать, формы внешние имел более элегантные, если позволительна такая оценка дизельному гусеничному агрегату. Синего цвета, с белой макушкой, борзая собака да и только, вытянутое туловище устремлено вперед, готовое к прыжку с места так рвануть, такую скорость набрать… «Алтаец» же смотрелся более основательно, степенно, с горделивым, тем не менее, окрасом.
Амортизационные сроки тогда выдерживались строго, в технике новой село недостатка особо не испытывало и пропыленные физиономии ветеранов-старичков тракторов «ДТ-54» — скромных трудяг, на которых поднимали целину, были печальны. Уходило их время, их эпоха, обреченность угадывалась и в поведении комбайнов «СК-4» — рядом уже снисходительно посматривали на них крутолобые, только что появившиеся «Сибиряки».
Что до другой совхозной техники, то был еще в хозяйстве чванливый бульдозер «С-100», все больше отчего-то простаивающий в уголке машинного двора, сновали туда-сюда юркие «Беларуси», на которых в основном работали женщины. Поговаривали, что вскоре в район поступят гиганты «Кировцы». Среди грузовых машин пальму первенства тогда, в начале 70-х, удерживали остроносые натужно урчащие «газончики» — «ГАЗ-51», 52-я модель горьковских автомобилестроителей до Сибири еще не добралась, осваивая пока европейскую часть советской империи. Был директорский «бобик» с брезентовым тентом. На нем лихачил Колька Прытов, сразивший меня тем, что его клеши внизу были обрамлены золотистой полоской согнутых копеек.
Начальство рангом ниже по-прежнему поспевало по своим хлопотливым обязанностям, используя лошадок. В них недостатка тоже не наблюдалось – рядом, в 15-ти верстах, знаменитый алтайский конный завод.
Эпоха личной техники тоже пока не начиналась.
Так получилось, что наш дом, куда мы поселились осенью 1970 года, открывал новую, начинавшуюся только застраиваться улицу. И как положено настоящему деревенскому дому, имел поместье. Огород в десять соток для картошки, огуречник примерно вдвое меньше для всяких там грядок и кустов, наконец, ограда, то есть место ничем не занятое, ставшее позднее моим стадионом. Именно со стороны ограды высокий занозистый забор из широких досок и горбылей, а за ним обширная территория машинно-тракторного двора. И как же, скажите мне, семилетнему человеку, можно было оставаться равнодушным к такому соседству?!
В Заводоуковске насыпь с проносящимися поездами (и за сто метров не смей подойти), а здесь прямо за забором стройный ряд комбайнов – «степных кораблей». В году месяц от силы совершают они плавание, а все остальное время стоят на приколе, точнее, на приземистых чурках, чтобы не испортились шины в зимнюю пору. Стану большим, буду обязательно работать на тракторе и на комбайне!
А пока я хожу в детский садик. Успел походить в старый, деревянный, стоящий в глубине кленовой рощицы. Клены в нашем сосново-березовом краю по популярности прочно занимали третье место. Неприхотливое это дерево плодовито, безалаберно – под стать нашему народу: где посажен, там и живу, тем и довольствуюсь и ничего-то мне не надо! В старом детсадике были большие круглобокие печи, но как они топились, этого я не помню, не застал. Было лето, окончание его, запомнилось лишь, что на прогулках мы искали в траве и находили «прянички» — малюсенькие, меньше кнопки, головки калашника. Угощали ими друг друга, ходя в «гости».
Осенью же состоялось торжественное открытие нового двухэтажного белокирпичного здания. Половину его отвели под ясли-сад, а во второй открыли интернат для школьников, приезжавших из соседних деревень, где не было школ-десятилеток.
Жизнь в детском саду помнится мне осколочно. После бабушки Фени, ее уютного тихого домика, мурлыкающего радио на столе под кружевной салфеткой – вечный шум, гам, плач, переходящий в рев, беготня, толкотня, обязательные манная каша и ложка рыбьего жира (два моих самых ненавистных блюда, если, конечно, рыбий жир это блюдо, а не утренняя пытка, публичная казнь – вот что такое огромная столовая ложка рыбьего жира!).
Вокруг детсадика-интерната заасфальтировали кольцо узкой, в два метра, дороги. И спрашивается – зачем? Сколько раз после неудачных приземлений на эту «полоску цивилизации» — а больше асфальта в совхозе не имелось – окрашивались коленки и локти в зеленый цвет. Сколько слез было пролито из-за этого злополучного асфальта!
В детском саду верховодили пацанята, которым на следующий год надо было идти в школу. Я же вообще новенький, приезжий, «тише воды, ниже травы». Но не зря говорится: в тихом омуте черти водятся. Тихоня, тихоня, но чертенок уже прыгал, резвился, рвался наружу. Короче, приобрел я в садике репутацию этакого Дон-Жуана. И даже мои оттопыренные уши не мешали мне «влюблять» в собственную персону девчушек из нашей группы. С одной из них мы нередко уединялись на лестничной площадке и я поражал ее воображение рассказами о проносящихся поездах с танками, об огромных городских домах в пять, нет, чего мелочиться-то – в десять этажей, откуда мы приехали и где жили как раз в таком доме на самом верхнем этаже, с которого видно было, тут я чуточку тормозил свое вранье – видно было… не саму Москву, а ее окраины… Девочка слушала меня, открыв рот. А потом мы играли с нею «в папу и маму».
Помнится переполох, виновником которого оказался мальчишка по имени Андрейка (фамилию его я запамятовал). Девчонки закрылись в умывальнике, точнее, подпирали, удерживали дверь, остекленную наполовину матовым стеклом. Пацанва пыталась дверь открыть. Андрейка решил брать умывальник «штурмом», разбежался и… стекло разбилось. Хлынула кровь, испугав Андрейку, испугав, наверное, еще больше нянечек и воспитательниц, примчавшихся на крики. И как сейчас отчетливо вижу Андрейкины руки. Беленькие, тонкие руки, все запястья которых в каких-то стягивающихся красных полосках. «Шрамы, — пояснял гордо Андрейка, показывая руки, — папка говорит, они мужиков украшают». На него все смотрели с уважением, даже завистью.
Однажды и я привлек внимание всей детсадовской общественности, придумав, вернее, взяв из жизни игру.
Мы ездили с мамой (это уже осень 71 года) проведывать сестру. Она только что после окончания восьмого класса уехала в город Камень-на-Оби, поступив учиться в педучилище. И вот мы стояли на трассе, и мама «голосовала». Притормаживали большие машины «МАЗы», и водители кричали примерно одно и то же: «Куда подбросить, мамаша?» Но все было как-то нам не по пути, и мы стояли долго, пока не уехали. Это была моя первая поездка на такой большой, прямо-таки огромной машине: сидишь высоко-высоко, а в кабине, оказывается, за шторкой есть лежанка. И какой же огромный руль в этом «МАЗе»!
Эпизод нашего голосования на трассе с лихими шоферскими возгласами-вопросами я и перенес в детсадовскую действительность. Соорудили из стульчиков машины – и вперед в игру «куда подбросить, мамаша?» В нее были вовлечены почти все. Я, как придумщик игры, чаще других исполнял роль шофера.
Все пацаны после этой игры решили: когда вырастут быть или шоферами, или трактористами. Самые дерзкие в мечтах – пограничниками или космонавтами. Профессии каких-то там учителей или врачей в расчет не принимались, о них даже разговоров между нами не было.
Было начало лета. Всех нас почему-то собрали в зале, где мы делали по утрам зарядку, рассадили на стульчики (руки, дети, положите на колени, тишина!). Из распахнутой двери кабинета директрисы лилась печальная, заставлявшая испуганно сжиматься наши сердечки музыка. Потом стали передавать по радио о похоронах космонавтов. Кажется, или я вновь с высоты прожитых лет инсценирую обстановку, но в зале было сумрачно, почти темно, хотя день летний был в разгаре (задернуты шторы?). Из репортажа о похоронах помнится лишь фамилия Пацаев, все остальное заслонила эта печальная музыка.
Я никогда не мечтал стать космонавтом. Почему – даже объяснить не могу, и не пытаюсь. Не хотел и все. Знал, конечно, уже тогда о Гагарине, хотя считал, что он живой (какое-то наслоение разговоров взрослых и мое присутствие при этих разговорах о том, что, мол, не погиб он вовсе, а спрятан где-то понадежнее, так как за ним охотятся американцы). Запечатлелось, что Герман Титов – наш земляк. Об этом услышал еще в Заводоуковске, как раз в том разговоре о космонавтах. А зашел он потому, что одну из улиц городка на речке Ук скоро назовут в честь космонавта Комарова, родившегося здесь и недавно погибшего.
А про земляка Германа Титова на пластинке пели распотешные «Ярославские ребята»:
Вместо Германа Титова
Предлагали нам лететь,
Только мы не согласились –
Кто ж частушки станет петь?
И еще дальше что-то про космонавта Быковского, мол, пробрались эти самые ребята ярославские к нему в космическую кабину тайком, а он их поначалу и не заметил, в полет отправился, но потом увидел и: «…заматерился, ох! Аж на двенадцатой версте». Верста представлялась мне высоченным столбом, с которого частушечникам пришлось прыгать.
Похороны космонавтов, наше сидение на стульчиках (никто не плакал, но и не шалил, и было тихо-тихо), и по такому печальному случаю даже отменили «тихий час».
Моя кроватка в спальне стояла у окна, рядом висела штора, и я, не любивший спать днем, то рассматривал узоры на шторе, долго, пристально, и узоры превращались в причудливых животных, или лица людей, то начинал считать до ста, полагая, что если считать медленно, то вот досчитаю до ста, нет, даже до стапятидесяти, и «тихий час» закончится.
А после «тихого часа» — «полдник» с киселем и печеньем, и ожидание мамы. Скорей, скорей, мамочка, приходи! И зависть жгучая, и обида до першения в горле, когда раньше приходили родители других детей, забирали их, уходили, а ты остаешься и ждешь, ждешь…
Нет, определенно, детский садик остался для меня воспоминанием малорадостным. Быть может, думаю сейчас, это было первое мое испытание в жизни, требовавшее примирять и подчинять свое «я» детсадовскому коллективному мироустройству? В оправдание свое пытаюсь приладить тот факт, что вирусом коллективизма я был заражен с трехмесячного возраста. Именно столько мне было, когда маме пришлось выходить на работу и относить меня в ясли. Вирус – он на то и вирус, чтобы желать (всю жизнь?) от него избавиться.
Но вот, наконец, приходит мама. Ура! И будем сейчас говорить о радостях. Их много-много. Гораздо больше, чем печалей.
…Сегодня мама торопится и везет меня на санках. Я этому рад, так как никто сейчас не мешает моему любимому занятию по дороге из садика. Прижмурившись, смотрю я сквозь ресницы на снежинки, кружащиеся вокруг горящих лампочек на столбах. И кажется мне, что весь мир искристо-снежный и вспыхивают, подрагивая, в нем звездочки. Открыл глаза – и все пропало. Только зимний вечер, мама в шубке да скрип снега под валенками и полозьями санок. Прижмурился – и опять таинственное мерцание.
Мама говорит, что отвезет меня домой, печку протопит, накормит сынулю («я что-то вкусненькое купила»), и пойдет снова в контору. Через два дня Новый год и надо торопиться, доделывать годовой отчет. Все ее коллеги сейчас в конторе, на работе. Вот и она спешит.
До нашего дома из садика ведут две дороги. Длинная – по центральной улице, а затем по переулку и короткая – через машинный двор. Правда, он, как я уже говорил, огорожен, но в любом заборе – дело известное – есть лазейки и протоптанные дорожки к ним.
Оставил я на время свое любимое занятие: мимо горки проезжаем. Барахтаются здесь ребятишки-школьники. Разбились на две армии и крепость осаждают. Те, что наверху, понятно, не дают карабкающимся снизу забраться. Некоторые и шапчонки потеряли – до того заигрались, подобрать некогда – сражение!
Вздыхаю тяжко. Эта игра мне еще заказана. Маленький, видите ли, я совсем. В школу и то только на следующий год пойду.
Проехали мимо горки – я все норовил оглянуться, но неудобно, шуба мешает, шарф повязанный по глаза. Елка на пути. Высоченная! Сегодня ее – об этом мы естественно в садике узнали – устанавливали на площади напротив конторы маминой. И лампочки на нее повесили разноцветные, не зажгли еще, правда.
Скрип-скрип-скрип… Вот и машинный двор. Комбайны в ряд стоят, снегом укрытые. Здесь и папин «Сибиряк» — вон, крайний. Как и все трактористы, в уборочную папа на комбайн пересел. Это его первая жатва была. И я его в это время совсем дома не видел.
Миновали машинный двор. Через дырку в заборе пролезли. Я ножки размял, пока мама санки через перекладину перетаскивала. Дальше поехали.
Навстречу идет соседка тетя Валя. Сильно она мне нравится. Ласковая, добрая и красивая. Почти как мама. А работает тетя Валя на тракторе «Беларусь». Сын тети Вали, Сережка, на год меня старше, и мы с ним плохо знакомы. Он в садик не ходит, сидит с бабушкой своей.
Поздоровались соседки. Тетя Валя ко мне нагнулась. «Как дела?» — спрашивает. «Как сажа бела», — отвечаю с достоинством. Правда, вместо «сажа» у меня «саза» выходит. Ну, ничего, зато так взрослые любят говорить.
Вот уже и наш огород. Сейчас Мухтар голос подаст. Он всегда так нас встречает. Лает, но не сердито, как на мальчишек, когда они расшумятся у нашей ограды, а как-то весело, даже подвизгивает. Да еще то на будку свою запрыгнет, то с нее обратно. Если бы не цепь, он уже сейчас рядом был да меня норовил облизать. Мухтарка добрый. Ни куриц, ни цыпушек, ни уток летом не трогает. Они даже порою из его миски пытаются попотчеваться. Ну, тогда, конечно, Мухтар их ради приличия разгоняет. Лишь с кошкой Муркой у Мухтара нелады. Но Мурка сама виновата, слишком важничает и нарочно с таким видом мимо Мухтара любит пройти. Ему и обидно.
Мама, обернувшись, говорит, почти кричит мне радостно: «Смотри, сына, папка дома!» И действительно, светится окно на веранде, значит, папа пришел сегодня с работы пораньше.
…Зимой папа на тракторе возит в большой бочке молоко с фермы на районный молокозавод. Тридцать километров туда, столько же обратно, потому назад возвращается поздно. Иной раз он заезжает домой, и тогда мы все вместе отправляемся до Сосновки, где расположено отделение совхоза и где папа работает.
Ах, как же здорово ехать на тракторе! Да еще зимним вечером! Кругом темень, а фары высвечивают дорогу далеко-далеко. А когда проезжаем лесок, этот самый заступ, кружатся снежинки перед фарами, и чувствуешь: да, там, в лесу, сейчас холодно и страшно, а в кабине тепло, даже жарко, пахнет соляркой, нагретым железом. В термосе папа обязательно оставил тебе горячего чаю, дорога ровная, и ты, пусть и чуток облившись, пьешь сладкую, ароматную жидкость из крышки термосной.
Папа держит свои сильные руки на рычагах. То один на себя потянет немножко, то другой. Да!.. Когда я пойду в школу – скорей бы! – папа обещает мне дать порулить.
С трактористом я дружу,
Помогать ему хожу.
Тракторист ведет машину,
А я рядышком сижу.
В дороге мама любит напевать именно эту частушку. А вообще, сколько она частушек знает, ой-ей-ей! Часами может петь да еще приплясывать при этом.
Заглушил папа трактор, воду из радиатора слил, кабину закрыл, отдыхай «Алтаец». А мы домой пошли. Сосновские огоньки остаются за спиной, собаки переругиваются, но нехотя – зима. Идем по плотине. Я посередочке, держусь за мамину и папину руки, и все норовлю прокатиться по наезженной дороге. Хотя от такого занятия дырки в пимах получаются. Но они, пимы, ведь и подшиты уже. Папа и подшил. Он на все руки мастер. Бывает столько валенок ему нанесут, чуть не со всей деревни – гору! Он сидит вечерами на низкой табуреточке и так ловко шилом и дратвой орудует.
…Соскакиваю с санок на ходу и едва носом не в сугроб. Бегу к Мухтару. Лопоухий, черный весь, только грудь да передние лапы белые, пес тоже радуется. Соскучились, целый день не видались. Да к тому же, если честно, утром я «сонный тетеря» был, папа так говорит, и не поздоровался даже сМухтаром. Все хотелось мне сон досмотреть.
Мама меня торопит. Ладно, Мухтарик, новогодние праздники впереди, тогда уж мы наиграемся.
Мама голиком обметает мои валенки, и мы заходим в дом. Печь топится, папа чистит картошку, собирается суп варить. Он и это умеет. Случается такое, правда, редко, но уж если приготовит щи или борщ, то тогда даже у меня аппетит появляется. Мама немного даже обижается. Надо же! То не уговоришь, каждую ложку с боем, а тут, пожалуйста, всю тарелку до дна. Папа в таких случаях только посмеивается.
Заглянула мама в папины глаза мельком. Успокоилась. Сегодня папа трезв, «как стеклышко». Это слова папа любит произносить, когда выпивши приходит. Да еще добавляет:
— Что ты, что ты, мать, так, сорок капель… Пришлось тут, понимаешь…
— Заставили? Связали, бедного, и в рот вливали? – жалостливо, едко спрашивает мама.
— Ну! – радостно соглашается папа.
Но бывает, бывает, папа напивается сильно. Тогда либо сам до дому доплетается с трудом, либо, его не дождавшись, поздним вечером мы идем папу разыскивать.
Обычно поиски начинаются у папиных сослуживцев. И если кто-то из них, отводя глаза в сторону, говорит, что папа был здесь, только давно… да и только по стопочке… становится ясно: папа начал обход деревни. Сначала по друзьям, потом и вовсе, если не успокоится, от двора ко двору. «Рюмки сшибать», — как говорит мама. Наконец, где-нибудь за веселым застольем мы папу находим. Он несказанно удивлен: «Во! Это сын мой! И супруга моя!» — представляет он нас, словно мы прибыли в деревню с какого-то необитаемого острова. «Да, да. Приятно познакомиться», — отвечает мама.
Хорошо, если мама находит в себе силы сдержаться. Тогда все завершается спокойно. Мы приводим папу домой, он еще немного колготится и засыпает. Хуже, когда мама, не выдержав, скажет папе что-нибудь обидное. И тогда папа, что называется, заводится. И они начинают ругаться. Папа обещает уйти от нас немедленно и уйти навсегда, о чем мы не раз еще пожалеем. Мама в ответ: вот и хорошо, без тебя хоть поживем спокойно.
На днях папа пришел сильно пьяный. Да, я замечаю уже, что здесь в деревне папа выпивает чаще, чем в Заводоуковске, и весь вечер родители ругались. Под их громкие голоса я и уснул расстроенный. А утром, только глаза открыл, спрашиваю у мамы:
— Где папка?
— Ушел.
— Куда? На работу?
— Совсем, — мама прячет заплаканные глаза.
Была суббота, это точно, потому что по субботам мама затевает стирку. Я попросился погулять в ограде. Побродил немножко. Играть не хотелось даже с Мухтаром. Снегу за ночь намело много. У сараюшки, где летом были цыплята, под самую крышу сугроб. Залез кое-как на крышу, в валенки снегу набрал, стою, смотрю на дорогу. Жалко мне и маму, и себя, конечно, и папу. Никак в толк не возьму: папу, что же, я больше не увижу? Смотрю на дорогу. Никто по ней не идет, не едет.
Вернулся домой. «Веселые картинки» листаю, то и дело в окошко оттаявшее выглядываю. Рамы двойные, пластилином пазы прочно залеплены – не слышно ничего. В который раз к окошку подошел, нос сплющил. И тут – чудо! Слышится, все лучше слышится рев трактора… Папин?! Или?.. Папин! Вот к дому нашему подъезжает с бочкой молочной на санях. Про шапку забыл, ноги в валенки и бегом, с воплем радостным: «Папка! Папка!» — на улицу встречать.
…Мама, наскоро перекусив, убегает на работу. К десяти часам папа за ней в контору пойдет – так договорились.
Печка расшумелась тем временем, папа еще сосновых полешек подбросил. Сейчас он луковицу очищенную режет на тонкие пластики. Морщится, отворачивается, слезы у него из глаз бегут. Зовет меня помогать. Ага, хитрый папка, знаю я как лук резать. Да у меня и своих дел хватает. Под высокой кроватью с никелированными спинками, где хранится коробка с игрушками, ждет, дожидается меня трактор. Папа его из брусочков и дощечек сделал. А сегодня мне надо и молоко отвезти, и дрова из лесу привезти. Привязываю ниткой к трактору карандаши. Ревет натужно трактор, лесины тяжелые тащит. Крышка на выхлопной трубе-гвоздике не закрывается. Привожу дрова дяде Коле Наумову. Тот меня благодарит, за стол усаживает, угощает, но я от выпивки отказываюсь.
— Сынок, кушать пошли, — возвращает меня из игры папа.
Кошка уже у стола, тут как тут. Мяукает жалобно, еле слышно, будто год ее не кормили. Выпросила все же. Поела и опять на печную лежанку запрыгнула. Сейчас там развалится и до утра посыпохивать будет, притворщица несчастная. А Мухтар, бедняжка, на улице мерзни…
…Протопилась печка. Тепло в нашем доме, уютно. А на улице, наверное, вьюга начинается – в трубе гудит все сильнее.
— Как мы завтра за елкой пойдем, а, сынок? – произносит раздумчиво папа. – Опять коня за просто так отдаешь?
Я играю с папой в шахматы. Правда, я совсем-совсем еще плохо играю. Больше слежу, как папа ходит, и за ним ходы пытаюсь повторять.
Шахматы привез мамин брат из города. Ладненькие, красивые, особенно коняшки, блестят и лаком так чудесно пахнут. Папа хотя и играет без ферзя и туры, но я все равно проигрываю. Губа выпячивается, глаза заволакивает. «Ничего, научишься», — успокаивает меня папа. Усаживает на плечи и давай по комнате чуть не бегом вышагивать. Вся моя обида вмиг улетучивается.
Папа смотрит на часы. Я тоже смотрю. Маленькая стрелка рядом с цифрой девять, а та, что побольше напротив цифры одиннадцать.
«Неси книгу с картинками», — говорит папа. Я бегом к тумбочке, на которой телевизор стоит. Приношу с двумя лебедями, несущими на своих спинах кудрявого мальчика на обложке. Папа берет карандаш оструганный, тетрадку и начинает перерисовывать. Я рядом стою, затаив дыхание, наблюдаю. Ох, и ловко же у папы получается! А я начну Мухтара рисовать – какая-то корова пузатая выходит.
Затем папа укладывает меня в постель. Поцеловал и щетиной немножечко уколол. Специально. Знает, что мне это нравится.
Ушел папа за мамой в контору. Дом на замок закрыл. А я уже не боюсь один дома оставаться. Так, чуть-чуть страшновато. Но надо песни петь тогда. К тому же в большой комнате свет горит, и полоска от него прямо на мою кровать падает. Я еще и Мурку к себе позвал. Она с печки спрыгнула и на кровать. Примостилась клубочком, замурлыкала. Все же настоящий друг. Как бы их с Мухтариком подружить?
— Завтра мы елку из леса принесем, слышала? – говорю ей.
Глажу Мурку и начинаю ей рассказывать, какими игрушками будем елку наряжать, наказываю, чтобы она их не трогала. И все медленнее слова произношу, все реже…
…Тепло и тихо в нашем доме. Лишь прерывисто гудит во вьюшке. То Старый бородатый год упрямится, не хочет уходить, в трубу прячется.

 г. Барнаул, ул. Молодежная, 5
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5