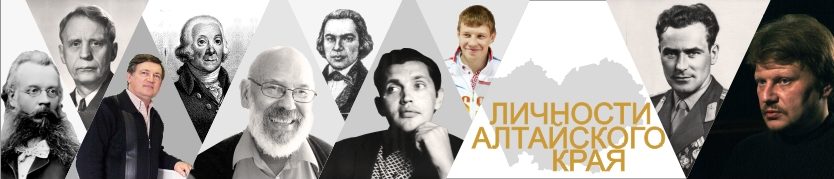2022
2022 – Сто лет исполняется со времени парижского издания первых трех частей романа-эпопеи «Чураевы» Георгия Дмитриевича Гребенщикова (23 апреля [6 мая] 1883 или 1884, Николаевский рудник, Томская губерния – 11 января 1964, Лейкленд, Флорида, США).
Перед глазами читателя открываются сибирские просторы; быт и нравы людей, населявших этот край в конце XIX – начале XX века, автор описывает в мельчайших подробностях. Могучая река, на воды которой крестьяне спускают караван плотов в начале романа, – символ самой жизни. Г. Д. Гребенщиков изобразил в романе-эпопее «Чураевы» алтайских старообрядцев, являвшихся для автора историческим феноменом, будораживших его творческое воображение как удивительная загадка национальной истории, как уникальный опыт сбережения традиционных нравственных ценностей русского народа. Гребенщиков видел в старообрядцах идеальных крестьян, верил в то, что их «исконвешный» уклад не утратил своей жизнеспособности, не должен и не может уйти в абсолютное прошлое, и надеялся, что «бухтарминцы, наделенные природной мудростью, настойчивостью и выносливостью, сумеют понять необходимость подчинения неизбежному ходу жизни и сумеют приспособиться к новым условиям».
В то же время он понимал, что «древнерусская старина» в XX веке могла бы существовать «только под бронею именно упорного протестантства и искреннего религиозного фанатизма», для которого «теперь места на Руси не остается», поэтому «Алтайская Русь» должна уступить место новому времени. Задуманный вначале как семейная хроника и жизнеописание правдоискателя Василия Чураева, роман в процессе создания последующих томов вобрал в себя новые впечатления и размышления автора. Наиболее заметные изменения в работу Гребенщикова над романом внесли мировая война и последовавшие за ней «кошмарные события, которые принесли конец войны, анархия и гражданские войны…».
Судьбы героев сложны, как сложно время, в которое им довелось жить. Братья Чураевы, герои одноименной эпопеи, как будто и не ждали и не чаяли больших событий, большого пути. Как будто все для них должно было закончиться еще в первой части эпопеи – романе «Братья Чураевы». Центральный персонаж романа, молодой крестьянин Василий Чураев, приезжает в Москву учиться. Он воспитан в строгих старообрядческих традициях, но его мировоззрение под влиянием большого города претерпевает изменения. Василий порывает с семьей, он намерен отыскать свою собственную веру, «нового Бога». Всякий человек, вставший на такой путь, обрекает себя на множество испытаний. Какие же уроки вынесет из них герой Гребенщикова? Но слишком обманчива сюжетная схема этого небольшого романа, чем-то напоминающего «Братьев Карамазовых»: брат Викул, только что приехавший из староверческого Алтая, соблазняет своей природной мужской красой москвичку Надю, которая любит другого Чураева – Василия, но не хочет себе признаться в этом. Итогом этого смешения подлинного и мнимого, чувств, иллюзий и надежд на несбыточное, становится брак Викула и Нади с последующим жестоким взаимным разочарованием. Ищут герои в романе не только Бога, но и любовь. В этих поисках они проявляют удивительное мужество. Так, жена Кондратия Чураева Настя, никогда прежде не покидавшая деревни, отправляется вместе с детьми на поиски мужа в мир, о котором она так мало знает. Роман написан напевным и цветистым языком, тесно связанным с фольклорной традицией.
Не утратить нравственную основу, а напротив, укоренить ее в человеке, народе – вот в чем главная задача произведения Г. Гребенщикова. Да так, чтобы «удержалась» она, эта основа, в народе не только «силой традиции, авторитетом отцов и дедов» и оттого не проникшей «в глубину народного характера», но и ценой тяжелого, повседневного, но радостного труда души и тела, обязательного для каждого. Эту высокую правду о русском человеке и народе, чей опыт, как показал писатель, важен для каждого живущего на земле.
Отрывок из романа:
«Так устроена жизнь Чураева, что все его хозяйство под руками, на виду. Из дома видны: пашни, пасека, маральник; а с пашни, из пасеки и из маральника, как на ладошке, – дом и вся деревня. Река же – как надежная городьба между деревнею и благодатью Божьей. Как боярин, князь удельный, всем располагает здесь Чураев. И не чувствует ни угрызенья совести, ни страха перед Богом: все добыто трудом, все дано Богом, землей, водой и солнышком.
Подчас, однако, беспокоят его думы, разное приходит в голову. Вот лавка: мирское это дело, не угодное Богу. Но в том он не так уж грешен, не он затеял торговлю, а Викул. И то, что Викул парень разбитной, толковый, непоседливый, Фирсу Платонычу даже нравится. Ему приятно вспомнить, как сын начал торговлю, как он каждую весну плотит плоты из самого лучшего леса, нагружает их медом, воском, маслом, хлебом, шкурами зверей и скота и со всем этим добром уплывает вниз, в далекий город, а оттуда возвращается на подводах, нагруженных всякими товарами. Что ни год, то больше уплывало лесу и сырья, все больше привозилось товаров.
– Пробойный парень! – одобряет Фирс Платоныч. – Только вот не женится до тридцати годов, – и почему-то это вызывает у него досаду, напоминает Самойлу, Анкудинычева сына, который тоже до сих пор не женится. А Викулу ровесник, одногодок.
Но тут Фирс Платоныч, чтобы смягчить досаду, думает о меньшаке Василии, не похожем ни на Викула, ни на Анания… Вострый и речистый, он особенно любезен сердцу Фирса Платоныча.
– Юла парнишка! – неодобрительно, но весело и громко говорит Чураев и все скорей шагает по тропинке между густеющим кустарником и лесом.
Василий учится в Москве. Фирс Платоныч ждет, что он начетчиком на всю округу будет, – для этого и в ученье отдал с малых лет.
– Этот постоит за истинную веру!.. – гордо говорит Чураев. – Этот не поддастся выписным миссионерам!
Но в душе ворочается что-то смутное и беспокойное. Чураев тверже стукает о землю костылем, шире шагает по тропинке, спешит на пасеку, где лучше думается, где исчезают всякие сомненья и как-то ярче встает в памяти седая старина, ее заветы и нерушимые преданья.
Вот и пасека – старинный святой угол, сто лет назад здесь поселился скитник Агафон Чураев, дед Фирса. Как зверь от лютой погони, он убежал сюда, в глушь Беловодья, к ревнителям истинного благочестия, в потаенные в горах скиты.
И сладостно, и горестно Чураеву пересматривать прошедшее столетие. Как давно прочитанную и любимую книгу, полную скорбных страниц и тихих радостей, перелистывает он минувшие года, и крепнет душа его, в сталь отливается его вера; в уединенную, нелицемерную молитву – его думы.
Святой старинною иконой, не иначе, представляется теперь Чураеву дед Агафон. С редкой белой бородой, с венчиком седых кудрей на голове, с сухим и строгим восковым лицом, он твердо и отрывисто говаривал Платону, отцу Фирса, слова царя Соломона:
– «Премудрый сын веселит отца, безумный сын – печаль матери».

 г. Барнаул, ул. Молодежная, 5
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5