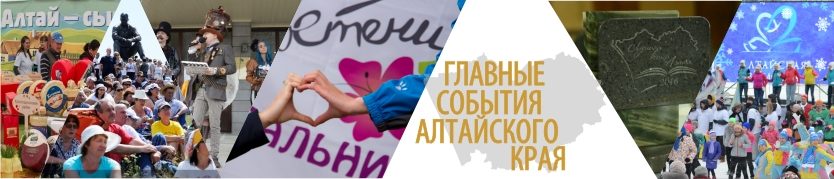АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ СОЛО, или ПОЧЕМУ КРИЧИТ КАКАДУ
| Источник: Материалы переданы Алтайской краевой общественной писательской организацией |
Боженко С.А. АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ СОЛО, или ПОЧЕМУ КРИЧИТ КАКАДУ |
Home |
СОДЕРЖАНИЕ:
Скромный летописец, или Кому нужна правда
Интимные подробности, или О чем умолчала история
Первые впечатления, или Почему счастлив ребенок
Уроки анатомии, или Живее всех живых
Неуловимый Боженька, или Как грешить в темноте
Первая учительница, или Кого лупить шваброй
«Мурзилка», или Первый политический опыт
Душа, или По ту сторону рельса
Прозрение, или Зачем бросать курить
Страшное слово, или По следам старшего брата
Жуткое кино, или Кто лучше фашистов
Первые тайны, или Когда вырастет женилка
Всенародный поход, или Что слаще морковки
Свобода, или В чем смысл смерти
Любимый праздник, или Как ковалась Победа
Новое увлечение, или За что отрывают ручонки
Бритоголовые, или О роли личности в истории
Телевизор, или Дожить до коммунизма
Детская нелюбовь, или О третьей мировой войне
Мой крест, или Что такое декольте
Уроки рисования, или Чем отличается палитра от палитуры
Детские игрушки, или Помощь для Родины
Черняк, или Уроки морского волка
Первые деньги, или Что делать без штанов
Пассатижи, или Оружие для защитника
Взрослая жизнь, или Почему кричит какаду
Тот свет, или В чем смысл жизни
Заключение, или На донышке сладкого сна
СКРОМНЫЙ ЛЕТОПИСЕЦ, или КОМУ НУЖНА ПРАВДА
Однажды я осознал себя просвещенной личностью. Кем-то вроде Аристотеля. Или – Аристофана. С одной стороны, сей постыдный факт изобличает меня как одержимого манией величия. С другой – как скромного летописца своего времени. Что, в принципе, одно и то же.
С тех пор мое существование в корне изменилось. Раньше вопросы задавал я. Теперь их задают другие. А я вынужден отвечать.
Иногда мне приходится рассказывать о себе. И я судорожно соображаю, надо ли говорить правду. Кому это нужно? Вернее, нужна ли моя правда вообще? И прихожу к выводу: никому она не нужна. Поэтому буду врать. Точнее, буду говорить художественную правду.
ИНТИМНЫЕ ПОДРОБНОСТИ, или О ЧЕМ УМОЛЧАЛА ИСТОРИЯ
Моему рождению предшествовал целый ряд исторических событий. События эти нанесли человечеству и мне лично непоправимый урон. Как в области физиологии, так и в сфере духовного развития. Я имею в виду татаро-монгольское нашествие на Русь, покорение Сибири Ермаком и ядерные испытания под Семипалатинском.
Перехожу к интимному.
Меня зачали, когда велось следствие по делу о преступных действиях Лаврентия Берии. Будущие мои родители из местной газетки узнали, что сей милицейский муж выступил против родной Коммунистической партии. Более того, хотел восстановить господство буржуев. Мои родители были людьми аполитичными. Однако страх перед государством пронесли через всю жизнь. Видимо, отец усомнился в светлом будущем для ребенка. Поэтому предложил:
— Может, аборт сделать, пока не поздно?
Моя мать верила в окончательную победу социализма в отдельно взятой стране. Поэтому дала решительный отпор. Она так и заявила:
— Поздно!
Я рос в чреве матери под бравурные марши подготовки к празднованию трехсотлетия воссоединения Украины с Россией. Что дает право утверждать о некоем высшем предназначении моего появления на свет. Тем более с хохлацкой фамилией. Короче говоря, проклюнулся я вовремя. И никогда об этом не жалел.
Перехожу к главному.
Родили меня на Алтае, на станции Шипуново. На следующий год после смерти «отца народов». В год освоения целины. Как я уже говорил, из патриотических побуждений.
Отец мой – потомок казаков, покинувших бывшую Полтавскую губернию еще до диктатуры пролетариата. Он был мирным полугородским красавцем. В карманах отец носил семечки. Вместе с бритвой. В пору повсеместного послевоенного разоружения. Видимо, не мог побороть сословные традиции.
Мать моя из гнезда волжских переселенцев времен Столыпина. Она тоже отличалась на редкость мирным нравом. Однако в карман за словом не лезла. Что придавало ей экзотической самобытности. Не говоря уж о женском очаровании.
Родители мои были счастливы так, как бывают счастливы все родители. Что не помешало двум любящим сердцам вскоре расстаться.
То ли отец воспользовался бритвой не по назначению. То ли слишком увлекся семечками. История умалчивает.
Поэтому мое сознательное детство началось и кончилось без отца. Что замедлило ход моего физического развития. Зато ускорило темпы морального разложения.
Как потом выяснилось, родился я в год Лошади и под созвездием Близнецов. Что, с одной стороны, сулило талант и выносливость. А с другой – гнусный и изменчивый характер. Перечисленные достоинства наложили неизгладимый отпечаток на мое последующее бытие. Более того, приняли патологические формы. Что сказалось на моей общественной деятельности. Не говоря уже о личной жизни.
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, или ПОЧЕМУ СЧАСТЛИВ РЕБЕНОК
Мои первые детские воспоминания связаны с ощущением счастья. И с Китаем. О нем я знал, видимо, с пеленок. Или с тех пор, как из них вырос. Кстати, о Великой китайской стене я узнал гораздо раньше, чем о кремлевской.
О времени своего рождения я уже упоминал. Это случилось в год, когда прогрессивное человечество аплодировало Михаилу Ботвиннику – новому чемпиону мира по шахматам. А еще более прогрессивное – рукоплескало завершению первой китайской пятилетки. Правда, об этом я прочел много позже. Кроме того, я узнал, что освоение китайской целины совпадало снашим. Хотя чуточку запаздывало.
Короче, я оказался первоцелинником. Вместе с патриотически настроенными родителями. Которые уехали с Алтая в Казахстан. К самой китайской границе. Так получилось. Потому, что в карту СССР они ткнули одним пальцем. Зато с закрытыми глазами.
Повзрослев, я часто думал, зачем они туда ездили? Если Алтай и есть та самая целина!
Совхоз, в котором мы жили, назывался: «40 лет Октября». Я не понимал, что это значит, но запомнил. Хотя, по сути, я человек не злопамятный. Вокруг жили уйгуры, русские, китайцы. И какие-то неведомые, но страшные чечены.
Вверху было солнечно-голубое небо. Под ногами – кишащая живностью земля. Небо от земли отделяла таинственная сине-розовая стена гор. Или соединяла. Ровный теплый ветер с тех гор поил меня жизнью. И нес на себе стаи бумажных змеев.
Змеи были всюду: в небе, на деревьях, на крышах, в траве. И даже в руках. Ребятня била змей палками. Взрослые рубили кетменями.
Самое сильное впечатление оставляли запахи. Я вдыхал щекочущую сладость клевера. Красно-черную сумеречностьтрепещущих маков. Молочно-восковую густоту зреющей кукурузы. А еще распускались змеино-желтые липкие цветы с забытым названием. Над которыми роились такого же цвета бабочки. В садах улыбались китайские розы. Густой аромат источался каждым лепестком. Я их ел. Я был частью этих цветков и частью природы. Я еще не умел думать. Может быть, поэтому был счастлив…
Однажды солнечно-голубое небо над теми горами пролилось дождем. После чего в наш поселок двинулись китайские переселенцы. Они появлялись большими семьями. Неотвратимо! А мы двинулись обратно на Алтай.
Есть в тех переселениях что-то жуткое, как наводнение. Или неизбежное, как философский закон. Когда количество переходит в качество.
К этому времени относится первое мое изумление перед парадоксами мира.
Я смотрел из вагона и недоумевал. Почему дальние горы движутся вслед за поездом? Может быть, они не хотят с нами расставаться? Или они хотят нас перегнать? Наутро за нами гнались холмы. Потом – дальний край степи.
Пространство и время соединились в таинственный хоровод. Как я позже понял, во мне проснулся Эйнштейн. Но проснулся слишком рано. Я не был готов к абстрактному анализу. Не говоря уж о синтезе. Я все еще не умел думать. Поэтому был счастлив.
УРОКИ АНАТОМИИ, или ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ
В нежном возрасте я был заторможенным мальчиком. Или задумчивым. Диагноз ставить сложно. А может быть, поздно. Хотя соблазн есть, а возможности почти нет. Поэтому буду вспоминать. Диагноз по воспоминаниям – это свежо. Во всяком случае – не тухло.
Помню, как меня принимали в октябрята.
Пионервожатая сказала:
— Каждый должен сделать себе звездочку. Иначе не примут…
Я хотел быть принятым. Кажется, я первый раз в жизни страстно хотел. Неизвестно зачем, видимо, из детского эгоизма. Или врожденного упрямства.
Я сделал октябрятскую звезду. Из картона. Обшил красным сатином. Мать пожертвовала булавку.
Моему двоюродному брату звездочка очень понравилась. Тем более, что он был пионером. Он так и заявил:
— Дай поносить! А то отберу!
Младшая сестренка назначение звездочки истолковала по-своему. Зато мгновенно. Она сунула ее себе в рот.
Наконец наступил торжественный момент. Загремели барабаны. Завизжали горны. Навстречу нам двинулись пожилые пионерки из пятых классов. Они брали из наших ладоней звездочки и крепили нам на грудь. Тем, у кого не было самоделок, дарили настоящие звезды. Сверкающие! С портретом кудрявого Ленина! Те звезды походили на ордена! Моя походила на пельмень.
Я не знаю, то ли я уже в то время был завистливым. То ли у меня всегда были завышенные эстетические запросы. А условные рефлексы – заниженные.
Так или иначе, но я понял преимущество промышленного производства над кустарным. Задолго до изучения становления европейской буржуазии. Не говоря уж о политэкономии.
И еще я понял: торопиться не надо. Более того, работать вредно. Всегда найдется пожилая пионерка. И решил все проблемы.
Таким образом, приобщение к политической жизни оставило в моей душе незаживающую рану. Или даже кровавый след. Как пишут в романах. Иногда – в уголовной хронике.
Я уже упоминал о своих заторможенных рефлексах.
Так вот, пока мои босоногие сверстники гоняли резиновый мяч, я затихал над медицинской проблемой. Я размышлял, почему дедушка Ленин живее всех живых. Хотя давно помер.
Мать объяснять не хотела. Видимо, для нее этой загадки не существовало.
Я обратился к дяде Илюхе. Ученому соседу с обликом нетрезвого карася. Или – виноватого попугая. Сосед этот, отсидевший три года за непредумышленное убийство, меня похвалил. Он так и брякнул:
— Далеко, ешкин свет, пойдешь… Если милиция не остановит… Милиции до меня не было никакого дела. Медицинская же проблема оставалась нерешенной. Я поинтересовался в школе. Пионервожатая выполнила свой долг честно. Она объяснила:
— Потому, что Ленин живет в наших сердцах!
Я вновь надолго задумался. Из состояния умственного анабиоза меня, как всегда, вывела мать. Она поинтересовалась:
— Ты уроки выучил?
Я решительно отмел ее подозрения. После чего в тетради старательно переправил «единицу» на «четверку». Демонстрируя тем самым примат субъективного над объективным. И каллиграфические таланты.
В то же самое время голова моя была занята глобальной закавыкой: как один человек может помещаться в сердце другого? И во многих сердцах одновременно?
Так я ничего и не понял в анатомии. Зато понял другое. Чтобы стать живее всех живых, надо проникнуть во все сердца. Причем надо стать очень маленьким. Как пуля…
НЕУЛОВИМЫЙ БОЖЕНЬКА, или КАК ГРЕШИТЬ В ТЕМНОТЕ
В детстве я верил в Бога. Все было просто. Из деревни приезжала фронтовичка тетя Маша и вселяла в меня веру. Она говорила:
— Будешь конфеты брать без спросу – Боженька накажет.
Я настораживался:
Тетя Маша торжествовала. Она уточняла:
— Который наверху. Все-е-е видит!
Я втягивал голову. Незаметно осматривал потолок. Боженька ловко прятался.
Существование неведомого Боженьки косвенно подтверждал ученый сосед дядя Илюха. Иногда он кричал:
— В триединого Бога и кукурузу мать!
Недоразумения рассеял мой друг Пашка Пашков. Он сообщил:
— Бог у моей бабки живет на божничке. За иконой. Я когда фулюганю, то свет выключаю. Чтоб он не видел…
Я последовал Пашкиному примеру. Грешил в темноте.
Кстати, о темноте.
В пору моего детства церкви на станции не было. Был кинотеатр «Юность», перестроенный из бревенчатой церкви и поповского дома. Добрая билетерша впускала безденежных пацанов в зал после начала фильма. Как правило, мест свободных не оставалось. Мы смотрели кино, лежа на полу. Ногами к экрану. Так я и пролежал все детство на старом церковном полу.
Самым авторитетным человеком для малолетней шпаны был киномеханик Жора. Он хлопал по заднице подвернувшуюсядеваху и озарял окрестности легендарными афоризмами. Он, например, говорил: «Темнота – друг молодежи».
Я надолго задумывался. От боженькиного ли наказания легче в темноте прятаться? Или неграмотному человеку жить проще?
Мощную лепту в становление моего мировоззрения внесла пионервожатая Зина. Она сочетала в себе качества ребенка, завуча и асфальтового катка. В смысле – имела веснушки, пронзительный голос и аргументы из пионерской клятвы. Мне она сказала:
— А тебя, христосика, мы на совете дружины разберем…
Загадку существования пресловутого Боженьки окончательно запутала все та же фронтовичка тетя Маша. Выпивая по случаю двадцатилетия Победы над Гитлером, она сказала:
— Бывало, на войне мы Богу молились. А узбеки рядом – своему Аллаху. Евреи – своему… И немцы, видать, — своему… Какой, к черту, интернационализм, если даже общего Бога не придумали!
Взрослые продолжали ругать фашистов. В глубокой задумчивости я ковырял в носу. Страшные пионерские мысли приходили на ум. Или где-то есть ОДИН Бог, или его совсем НЕТ… Если разные люди верят в разных богов, то ошибаются ВСЕ…
Впервые в жизни я почувствовал себя умнее остального человечества. И долгое время с этим чувством жил. До первой двойки по историческому материализму.
Но я отвлекся. Впрочем, то же самое случилось с моей верой в неуловимого Боженьку. Я про него забыл.
ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА, или КОГО ЛУПИТЬ ШВАБРОЙ
В школу я пошел в год столетия отмены крепостного права. Непостижимым образом переломные годы моей маленькой жизни совпадали с государственными юбилеями. Но про все это я узнал много позже. Когда научился читать календари.
Я вспоминаю свою первую учительницу. Ее звали Антониной Михайловной. Это была полная женщина с мягкой терпеливостью в светло-голубых глазах. С плавностью речи. И с плавностью движений белых рук.
Впервые я увидел ее в утренней свежести сентября. Сквозь листву осенних георгинов. В облаке их запаха. Говорила она нараспев, глубоким грудным голосом:
— О-ой-еей, го-о-орюшко-о вы-ы мое-о-о…
Долгое время я не знал ее фамилии. Точнее, не догадывался, что у учителей тоже бывают фамилии. Кроме имени-отчества! Оказалось, что фамилия у нее какая-то старомодная. Какая-то несоветская. Позже я окончательно сформулировал: классово чуждая. Как у изобретателя радио.
Правда, моя фамилия оказалась того же сорта.
Мы сновали вокруг Антонины Михайловны, как цыплята. От ее большого тела исходило тепло. Как от матери. Она могла бы быть воплощением материнства. В детском сознании. А может быть, и стала. Или олицетворением доброты и строгости одновременно. Когда она печально вздыхала и говорила:
— Го-о-рюшко ты мое-е-о. Садись. Два…
И качала головой. Сложив на животе пальцы вместе. Белые от мела.
«Горюшко» хлопало влажными ресницами и тоже соединяло пальцы вместе. Фиолетовые от чернил. Потом совало руки в карманы. Чтобы сквозь прорехи высунуть пальчик между ног. К великой радости остальных.
С именем первой учительницы у меня связано первое выступление в качестве свидетеля.
Дело было так.
Стояло жаркое лето. По радио сообщали, что проклятые американцы бомбят какой-то Вьетнам. В тот день моя мать раньше обычного вернулась с работы. Почти бегом. Она отмыла меня от грязи. Потом нарядила в черные шаровары, белую рубашку и новые сандалии.
Выяснилось, что на Антонину Михайловну написали кляузу. О том, что она, якобы, избивала своих учеников. Весь год жертва молчала, но на летних каникулах решилась.
Мать привела меня к директору школы. Впервые в жизни я видел самого директора. У него была хоккейная фамилия – Фирсов. Это был громадный дядька в превосходном костюме. Пышная седеющая шевелюра украшала мужественное лицо. Его скрипучий баритон заставлял трепетать даже учителей. Не говоря уж о двоечниках или малолетних свидетелях. Позже я встречался с разными начальниками. Но большего страха я не испытывал никогда.
Рядом сидела моя первая учительница. Со светлыми беспомощными глазами. И плавным изгибом беспомощных рук.
Мать подтолкнула меня к директорскому столу.
Директор поспрашивал меня про учебу. Я в ответ покивал головой. Потом он надел большущие очки, почитал бумажку и произнес:
— А что, ваша учительница своих учеников линейкой била сильно?
Я открыл рот. Я хотел защитить Антонину Михайловну. Я хотел сказать, мол, нет, не сильно! Но удержался, ужаснувшись коварству директора. Хотя, если говорить прямо, нельзя было нас бить линейками. Надо было лупить швабрами! Поэтому я замотал головой. Потом выдавил из себя:
— Совсем не била… Никогда…
Так я побывал в роли свидетеля. Любимая учительница прижала мою стриженую голову к своему животу. Мягкому и теплому. И сказала нараспев:
— Со-о-олнышко-о ты мое-о-о…
В тот год вся школа впервые праздновала День учителя.
Драться я не любил. Впрочем, я не точен. Наверное, надо сказать, драться я не умел.
Впервые меня били по лицу в пору ребячьей застенчивости. Били не со злобы, а из интереса. Может быть, для коллекции. При этом забрали флажок или кепку. Не помню. Видимо, в качестве сувенира.
Позже я читал, что преступники обладают животной интуицией. Поэтому своих обидчиков я простил. Уже тогда им было ясно, что они грабят будущую знаменитость.
В детстве меня пугали гусями. Мать говорила:
— Не ходи на речку один. Гуси защиплют…
Что-то тут же погнало меня на речку. Одного. Наверное, врожденная гнусность характера. Или хохлацкое упрямство.
В пору «хрущевской оттепели» вокруг нашей станции было белым-бело от домашней птицы. В общем, оказался я около гусей. Ближайший гусак пошел на меня в атаку. Шипя и хлопая крыльями. Вытянув вдоль земли змеиную шею.
Вот здесь я и проявил недетское хладнокровие. Детскими ручонками поймал гусака за голову. Полетели перья. Белое тело придавило ногу в сандалике. Наверное, я свернул ему шею.
После этого мне стало страшно. Я осознал, что я это не я. Что во мне живет кто-то другой, дикий. Кроме того, моему злодеянию нашлись свидетели.
По соседству с нами жил электрик дядя Вова – бывший зек. Испитое лицо бывшего зека украшали красный носище, обширные залысины и неизвестного происхождения шишки. Две или три. Все это в сочетании с агрессивными повадками тюремного блатаря делали его местной знаменитостью. Ни одно событие не обходилось без его посильного участия.
Бывшего зека дядю Вову мое поведение насторожило. Он произнес:
— Гуся, говорят, задавил? Чьего? Деда Свечкаря? Тогда ладно… Можно…
Мое детство проходило под опекой двоюродного брата Витька. Друзья его звали Верным, недруги – Вермутом. Он был грозой местной шпаны. Витек смотрел на мир с оптимизмом. Он, например, предлагал мне:
— Давай кому-нибудь морду набьем.
Я изворачивался. Уже в юном возрасте я был чистоплюем. Я отвечал:
— Мне это неприятно.
Старший брат приводил новые и новые аргументы о пользе мордобоя. Помня об изначальной порочности человека. И забывая о моем хохлацком происхождении. Он подбадривал:
— Сначала неприятно, потом понравится… (Нечто подобное чуть позже я читал про любовь.)
Я вспомнил несчастного гуся и загрустил.
Уголовное будущее меня не вдохновляло.
«МУРЗИЛКА», или ПЕРВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Моим любимым журналом был «Мурзилка». Наверное, потому, что других не было. Не беря во внимание учебники. Которыея читать не любил. С одной стороны, это характеризовало меня как заурядного лодыря. С другой – как нестандартно развивающуюся личность.
В раннем детстве у меня был дружок Пашка Пашков. Нас объединяли пацанячьи радости и прелести безотцовщины. Кроме того, наши матери рожали нас практически одновременно. Можно сказать, что дружба началась непосредственно с акушерского стола. А укреплялась за школьной партой.
С «Мурзилкой» у меня связана стойкая любовь к Фиделю Кастро. Журнал был пронизан героикой кубинской революции.
Вдвоем с дружком Пашкой мы целыми днями прятались в подсолнух. Как в сахарном тростнике. И пели песни. Точнее орали:
Куба-а, любо-овь, моя-а-а,
Остро-ов зари-и Барбудо-о-ос…
Однажды после пения Пашка блеснул широтой политического кругозора. Он спросил:
— А кто сильнее: Фидель Кастро или Мао Дзэ-дун?
Я размышлял недолго. Зато ответил как патриот:
— Гагарин!
Разве можно было ответить иначе! Первый космонавт улыбался с открыток, с этикеток, с газетных страниц. О нем пелись песни.
В то время гремели два имени: Юрий и Герман. Это были имена первых космонавтов. Причем их фотографии мы держали в руках на первой в жизни школьной линейке. Вместе с осенними цветами.
С детства я помню риторические вопросы. Которые муссировались провинциальными мыслителями. Почему Юрий стал первым? И почему Герман оказался вторым? Хотя мог быть и первым! Тем более, что он наш земляк!
Повзрослев, я нашел банальный ответ. Оказывается, Герман был беспартийным. Перед стартом ракетоносителя с кораблем «Восток-1». И после благополучного приземления кабины космического корабля «Восток-2». Хотя свой полет он посвятил XXII съезду Коммунистической партии. Если верить газетам.
Помню, на нашей железнодорожной станции побирался полоумный без имени. И без возраста. Этот малый выставлял напоказ бельмы и раскрывал ладонь. Затем фальцетом по слогам декламировал: «Ты Га-га-рин, ты мо-гуч, ты ле-та-ешь вы-шетуч, за-бери с со-бой Ни-ки-ту и пих-ни его с ор-би-ты…»
Публика одобряюще хмыкала. Совала дурачку копейки. Тот с энтузиазмом принимался повторять стихи. Иногда мастер художественного чтения демонстрировал проблески ума. Правда, редко. Зато всякий раз, когда появлялся милиционер, вокзальный артист замолкал либо прятался.
Полжизни спустя я увидел этого дурачка вновь. Он почти не изменился. Особенно – его голос. Пришелец из детства вращал бельмами и мелодекламировал: «Ты Га-га-рин, ты мо-гуч, ты ле-та-ешь выше туч, Миш-ку забери иу-ду и пих-ни ево от-ту-да…»
Наверняка не летал в космос. Иначе бы он знал, что первых лиц государства в ракете на подвиги не отправляют. Тем более не выпускают в открытый космос. Даже несмотря на то, что эти лица уже в отставке.
Но я отвлекся.
Однажды мы с Пашкой Пашковым возились вокруг лужи. Он защищал Кубу с воздуха – бросал в воду камни. Я защищал остров Свободы с моря – кидал в воду палки. При этом оба горланили:
Куба-а-а, любо-о-овь мо-о-я-а…
Кому угодно наш воинственный пыл мог показаться странным. Но не нам. Ведь мы готовились вступать в пионеры. Поэтому бомбардировали американских агрессоров.
Наше пение растрогало тугоухого деда Свечкаря. Соседи почему-то его недолюбливали. Обзывали «кулаком». Хотя он никогда не дрался. В отличие от остальных. Зато умел работать, и огород вскапывал сам. Одной лопатой! Этот Свечкарьвышел за ворота, видимо, для приветствия. Мы услышали:
— Ото ж я вас, горлопанов!!
Из-за забора напротив появилась бабка Горпина – толстенная старуха с замашками блюстителя нравственности. Знаменита она была тем, что все про всех знала. И громко делилась чужими секретами с посторонними. Не говоря уж о родных и близких.
Бабка Горпина тоже восхитилась нашим вокалом. Видимо, ей захотелось, чтобы нас послушали и другие. Поэтому она пообещала:
— Милицию позову!
В пору Карибского кризиса молодежь еще не гонялась за скандальной популярностью. А милицию откровенно боялась. Поэтому мы отступили. Унося в сердцах непоколебимую верность интернациональному долгу. И любовь к журналу «Мурзилка».
ДУША, или ПО ТУ СТОРОНУ РЕЛЬСА
О душе я услышал от атеиста. Ни во что святое не веривший сосед дядя Вова ругался:
— В бога, в душу мать…
Про бога к тому времени я уже кое-что знал. Про душу – ничего. Существование этой самой души неожиданно подтвердила официальная пропаганда. По радио я услышал: «…поголовье скота на душу населения…» Я недоумевал, почему на душу? Почему не на человека? Или хотя бы на рот. Я терялся в догадках. Может быть, радио про оскотинившихся людей рассказывает? И что такое душа?
Я обратился к матери. Моей маме было не до основных вопросов философии. Ей надо было кормить подрастающего мыслителя.
Точнее, будущего графомана. Она отмахнулась:
— Ты своими расспросами мне всю душу вымотал.
Рядом оказался тугоухий дед Свечкарь. И принял посильное участие в разговоре:
— Ото ж, сусидка, правду кажешь. Його трэба лупцюваты… Щоб нэ щкодыв…
Мать в карман за словом не полезла. Более того, заступилась:
— Своих лупи, пенек глухой. Наплодил придурков…
Что правда, то правда. Наследники деда Свечкаря заметно отличались от соотечественников.
Один из его сынов был лектором. Он ездил по дальним деревням. Рассказывал про светлое будущее. Может быть, даже про коммунизм. В одной из поездок его забодал бык. Но не насмерть, хотя рассудком лектор подвинулся. После чего стал ходить боком. И с песнями. И под себя. По этому случаю многоопытная бабка Горпина говорила:
— Меньше бы языком трепал…
Другой его сын был известен всей станции. Свою популярность он снискал неумеренной любовью к спиртному. И к одиноким женщинам. Зимой и летом он ходил в одной и той же телогрейке. На голое тело, точнее, на шерсть. Однажды зимой он уснул на железнодорожных путях. Проснулся под колесами товарняка. Но не умер, а лишь потерял сознание. И обе ноги.
Все та же бабка Горпина его образ жизни решительно осудила:
— Доблядовался!
Дядя Илюха оказался более человеколюбивым. Он блеснул философским складом ума:
— Все равно, ешкин свет, он бы их отморозил.
В общем, сын деда Свечкаря выжил. Ездил по улицам на маленькой тележке. С колесиками из подшипников. Хватал зазевавшихся теток за подолы, требуя денег на выпивку. Или на похмелье. В той же самой фуфайке. Невзирая на время года.
Я думаю, моя мать была излишне требовательна к отпрыскам деда Свечкаря. Хотя многие с ней соглашались. Особенно в оценке генетических возможностей.
Однако я отвлекся. Пора завершать рассказ. Однажды я пошел на рыбалку. За пескарями для кошки. Под мостом обычно был хороший клев. Там же я решил накопать червей для наживки. В грязи я увидел тележку с колесиками из подшипников. Я поднял глаза. Сверху висел в петле безногий сын деда Свечкаря. Выпучив желтые белки. Дразнясь синим языком.
У меня что-то ушло в пятки. Я понял: это была душа.
И еще я понял, что безногий человек повесился не спьяну. А от тоски. От тоски по своей душе. Которая осталась в пятках. На том железнодорожном полотне. По ту сторону рельса.
ПРОЗРЕНИЕ, или ЗАЧЕМ БРОСАТЬ КУРИТЬ
Курить я бросил в третьем классе. Накануне вступления в пионеры. Мой поступок квалифицировал меня как самостоятельно мыслящую личность. Если смотреть на это в оптимистическом ракурсе. И как развращенного ребенка. Если наблюдать этот факт с пессимистических позиций.
В те времена я водился с дурными пацанами. Которые, в свою очередь, знались с блатными. Короче, мы были в одной шайке. Как тогда выражались. По нашей станции слонялось много таких ватаг. Как своры одичавших собак. Иногда эти своры сталкивались. Один из главарей обычно спрашивал:
— Шайка на шайку идет?
После чего назначались место и время побоища. Которые случались крайне редко. Чаще всего шайка случайно подлавливала одного из врагов. Например, в очереди за керосином. Окружала и наказывала кулачонками самых младших. Или самых подлых.
Наши летние маршруты были одинаковы. Мы кочевали по кругу: речка – вокзал – базар – речка. При этом дразнили собак, подбирали окурки, лазили по чужим огородам и купались до одури. В общем, готовились к взрослой жизни.
Взрослая жизнь почему-то без тюремной отсидки не мыслилась. Тем более, что тому были живые примеры. Вокруг и около. Взять хотя бы соседа Вовку-рецидивиста. Или дядю Илюху – шоферюгу с его судимостью за наезд на старушку. Сосед напротив – дед Свечкарь горевал на Колыме. Если верить сплетням бабки Горпины. Которая в свое время тоже сбежала из колхоза. Мой дед по матери побывал в плену у немцев. Потом десять лет – в советском. Хорошо, что дед по отцу под Москвой погиб.
Возвращаюсь к главному.
Почему я оказался в той дурной компании?
Не помню. То ли родители наши дружили. То ли животным свойственно объединяться в стаю. То ли я слишком хорошего мнения о себе…
Однажды наша шайка возвращалась с речки. Зашли к нам домой. Чтобы попить воды. И тут-то я увидел, что в своем доме не я хозяин! Шайка действовала как шайка. Она опрокидывала стулья, лезла в шкаф, пожирала съестное. Потом я увидел, как чья-то рука тащит деньги. Которые мать оставила мне для покупки хлеба. Я попытался призвать своего кореша к совести. Я так и сказал:
— Ты че, падла!
Но было поздно. Этот пацан передал деньги за спиной другому. Тот – третьему. Оба показали пустые ладони. Торжеству надо мной!!!
Я прозрел. Словно пелена упала с глаз. Я увидел стаю вороватых зверьков. Точнее, подлых подельников, связанных круговой порукой. Тех, кого я считал товарищами.
У меня всегда так. Напридумываю себе друзей. Или несуществующие идеалы. А потом страдаю. Долго и больно.
В конце концов, шайка без меня поспешила на вокзал. Там всегда можно было насобирать окурков. Или в привокзальном киоске купить пачку папирос. На добытые деньги! Если упросить взрослого дядьку. Потому, что малолетним курево не продавалось. Святые были времена – продавец на страже нравственности!
Воспитанием моим никто не занимался. Я и слова-то такого не знал. Может быть, это и к лучшему. Моя мать работала где-то на хлебоприемном пункте. За сорок рублей в месяц. Зато в две смены. Чтобы прокормить двоих детей. Арифметика понятна.
Короче, вечером с работы вернулась мать. Из детсада самостоятельно притопала сестренка. В доме не нашлось ни крошки. Голодная мать присела за пустой стол. Потом заплакала. Впервые я увидел ее слезы. И огорчился навсегда.
Пионерский галстук мою душевную рану прикрыл. Точнее, прижег. Но не полностью. Она кровоточит до сих пор.
Кореша из той шайки не дожили до зрелых лет. Одни утонули, другие замерзли, третьи сгорели. Кто-то был зарезан в привокзальных кустах. Видимо, не зря я бросил курить в третьем классе.
СТРАШНОЕ СЛОВО, или ПО СЛЕДАМ СТАРШЕГО БРАТА
Однажды я услышал страшное ругательство. Нельзя сказать, чтобы в детстве мой слух ласкала русская речь. Как юного Александра Сергеевича. Или еще более юного Михаила Юрьевича. Скорее, наоборот, матерщина окружала шипуновскуюшпану. Ее питала и ею питалась. И вот однажды, как гром среди ясного неба, грянуло…
Но лучше все по порядку.
Ясно, что молодежь с большим чувством относится к новым веяниям. Особенно в моде. Особенно в провинции.
Мой двоюродный брат Витек всегда был на гребне моды. Однажды он решил носить брюки-дудочки. Как в кино. Прострочить на швейной машинке школьные брюки не составило труда. Правда, с помощью одноклассниц.
И вот настал волнующий момент. Витек всунул ногу в штанину. Не тут-то было! Нога не пролазила.
На помощь пришел Шурка Шумаков. Этого сорвиголову отличало два качества: отсутствие родителей и пессимизма. Лучше всего у него получалось давать в морду и советы. Он сразу же предложил:
— Намылить надо!
Сообща намылили Витьку ноги. Не помогло. Пришлось намылить штанины. После чего мой старший брат смог погрузиться в модные брюки.
Это было настоящее произведение портновского искусства! При ходьбе из швов бриллиантами лезли восхитительные мыльные пузыри!
И вот тут-то, как гром среди ясного неба, грянуло:
— Стиляга!
Страшное ругательство предназначалось Витьку.
Шурка Шумаков среагировал молниеносно, но правильно. Он дал в морду автору страшного ругательства.
Общественность в лице соседей поддержала аморальное поведение Шурки Шумакова. Зато осудила аморальное поведение моего брата Витька.
Общественность сказала:
— Ну Клавка, дождешься!
Родная тетя Клава, она же мать Витька, тоже возмутилась. Она так и заявила:
— Не ваше собачье дело!
Рядом оказался тугоухий дед Свечкарь. Он поддакнул:
— Правду, сусидка, кажешь – пороть треба. Ото узяли моду вузькыи штаны носыты!
Я смотрел на мыльные пузыри старшего брата и думал: вот бы мне такие брюки!
Вечером мой брат Витек раздеться не смог. Поэтому спал в штанах.
Непостижимым образом общественность в лице соседей узнала об этом. И вновь выразила свое отношение:
— Стиляга!
Родная тетя Клава, она же мать Витька, с мнением общественности согласилась. Она сказала:
— Придется пороть…
После чего распорола швы на Витьковых штанах. И освободила сына из мыльного плена.
Я смотрел на своего старшего брата и думал: вот вырасту большим, тоже ушью себе брюки.
ЖУТКОЕ КИНО, или КТО ЛУЧШЕ ФАШИСТОВ
В школе меня пугали баптистами. Кто они такие, я не знал, но догадывался. Видимо, они были чуть-чуть лучше фашистов. Зато гораздо хуже цыган.
С фашистами все было ясно. Это враги, которые в кино на русском языке разговаривают. В касках с рожками. Убивают детей и пьют их кровь. К тому же все рыжие. Хотя сам Гитлер темный. Не говоря уж о Геббельсе.
С цыганами тоже понятно. Это хитрые попрошайки. В цветных платках. Воруют кур. Иногда – детей. Но кровь их не пьют, а, наоборот, учат плясать. К тому же все чернявые. Хотя встречаются и рыжие.
А в школе продолжали пугать коварными баптистами. Пионервожатая Зина проводила антирелигиозные занятия. Она, например, говорила:
— Не дай Бог попасть в сети к баптистам!
Я недоумевал. Во-первых, почему она просит Боженьку? Если сама говорит, что его нету? И, во-вторых, почему эти баптисты ловят детей сетями? А милиция где?
В школьном коридоре висел зловещий плакат. Черный паук-баптист оплетал такою же паутиною юного пионера. Или даже тимуровца! Плакат висел около туалета. Некоторые боялись туда заходить. В результате на уроках в классе поднималась злая вонь. А успеваемость падала.
Слухи о злодеяниях баптистов-изуверов преследовали меня даже дома. Причем все новости приносила бабка Горпина. При всем том, что газет она не выписывала. Из экономии. Радио не включала по той же причине. А телевизоров на нашей станции еще не было. Она, например, говорила:
— Вот кума моей своячены брехала, мол, Христос и есть первый коммунист.
На что умудренный жизнью дядя Илюха возражал. Но осторожно:
— Дура ты, ешкин свет, старая!
Бывший зек дядя Вова, наоборот, отличался ортодоксальностью мышления. Обычно он говорил:
— Бабка, ты, бля, не путай хрен с пальцем!
Слушать взрослых я никогда не уставал. Хотя их разговоры ставили меня в тупик. Я не понимал, почему огородное растение можно сравнивать с частью руки.
Как всегда, неожиданную версию принес мой друг Пашка Пашков. Он заявил:
— Баптисты – это такие фулюганы – хуже стиляг. Они детей к столбам гвоздями прибивают!
Я не поверил:
— Хуже стиляг никого не бывает.
Пашка глаза от возмущения выкатил:
— Я в кино видел!!!
И мы пошли в кино. В полутемном зале шныряла шипуновская шпана. Пашка пообещал, что будет страшно. Поэтому на сцену перед экраном ложиться не стали. В первом ряду тоже не сели. Сели во втором.
Фильм оказался непонятным, но жутким. С экрана доносился змеиный шепот: «Отдай Господу жизнь свою-у-у…». Потом у нас за спиной раздался дикий хохот. Кто-то пронзительно завизжал над ухом:
— Плими-и-и муки Хлисто-о-о-вы-ы!!
На голову мне прыгнули. Повалили в темноту под сиденья. В ужасе я кричал и дрыгал ногами. Рядом блажил мой друг детства. Видимо, из солидарности с жертвами баптистов. Или вопреки антирелигиозной пропаганде. А может быть, потому, что я топтался по его пальцам.
Когда мы выбрались из кинотеатра, Пашка мстительно сказал:
— А ты не верил.
В отличие от Пашки, я мстительным не был. Я с детства отличался мечтательностью. Поэтому сказал:
— Отпинать бы этих гадов.
— Баптистов, что ли? – не понял мой друг.
— Других, что на голову сели…
Обидчиков мы так и не нашли. Зато навсегда перестали бояться баптистов. Не говоря уж о стилягах. И тем более – о цыганах. О фашистах и говорить-то смешно.
ПЕРВЫЕ ТАЙНЫ, или КОГДА ВЫРАСТЕТ ЖЕНИЛКА
Я пытался понять, откуда же я взялся. Детский лепет взрослых про капусту мне был смешон. Даже сопливому трехлетнему внуку бабки Горпины было ясно, что детей рожают их матери. Точнее, я пытался понять, как появился человек.
Родной дядя Алексей Тихоныч знал все. Однако на деле оказался грубым натуралистом. Он объяснил:
— Вырастет женилка, узнаешь…
Ждать, пока вырастет неведомая женилка, я не хотел.
Мне решила помочь родная тетя Клава. Женщина во многих отношениях замечательная. Поскольку соединяла в себе качества дипломата, ефрейтора и картофелеуборочного комбайна. В том смысле, что вела вкрадчивые разговоры, лупиласупруга и не разгибалась на огороде. Она вступила со мной в научную дискуссию. На мой вопрос она ответила вопросом:
— Ты сам-то как думаешь?
Я ответил:
— Учительница говорит, что от обезьян.
— А обезьяны откуда?
Я блеснул эрудицией:
— От микробов.
Тетя Клава была беспощадна. Она терпеливо подводила меня к чему-то подозрительному. Она спросила:
— А микробы откуда?
Лично я микроба не видел. Но верил, что он есть. Тем более – живой.
Тетя Клава не стала ждать моего ответа. Она подсказала:
— Может быть, от Бога?
Это было уже слишком. Я ответил как настоящий октябренок:
— Бога нет! – и добавил: — Я в него не верю.
Тетя Клава оказалась мастером полемики. Она удивилась:
— А почему я должна верить в твоего микроба?
Я задумался. Действительно, почему? Оказалось, что эта проблема волновала не только меня. Кое-какие собственные соображения имелись у дяди Илюхи. Однажды начитанный сосед разоткровенничался. Он так и заявил:
— НЕ верю я, ешкин свет, ни в Бога, ни в Дарвина!
Выпивавший рядом бывший зек дядя Вова поперхнулся:
— Ты че, бля, против советской власти?!
Псевдоученый сосед окончательно раскрыл свою великодержавную националистическую сущность. Он заорал:
— Ну не хочу я, ешкин свет, происходить ни от евреев, ни от обезьян!
— Придется, — успокоил его собутыльник. – Но лучше все-таки от обезьян…
Мой друг Пашка Пашков принес принципиально иную версию происхождения человека. Он так и заявил:
— Это инопланетяне нафулюганили! Я в книжке читал.
Я был готов к космогоническому повороту разговора. Поэтому спросил:
— А инопланетяне откуда зародились?
Мой друг применил метод аналогий. Он заявил:
— От инопланетных обезьян!
Я решил его добить:
— А инопланетные обезьяны от кого?
Тот не растерялся:
— От инопланетных микробов!
Я махнул рукой. Истина удалялась в глубины космоса с каждым вопросом. И с каждым ответом. Я ничего не понял в теории эволюции. Но я понял другое: родной дядька Алексей Тихоныч прав. Придется ждать, когда вырастет женилка.
ВСЕНАРОДНЫЙ ПОХОД, или ЧТО СЛАЩЕ МОРКОВКИ
В детстве я всегда чувствовал себя голодным. И не я один. Друзья детства полностью разделяли мою гастрономическую агрессию.
Мой дружок Пашка Пашков, например, произносил:
— Эх, пожрать бы…
Я был мечтателем. Я ненавязчиво предлагал:
— Вот бы морковки натырить…
Санька Косинов был самым голодным. Поэтому был реалистом. Он говорил:
— Пацаны, пошли на косогор за сусликами!
И мы шли на косогор. Гремя пустыми ведрами.
Надо сказать, наше детство совпало со всенародным походом на грызунов. Как писали в газете. В преддверии летних каникул на школьной линейке выступила пионервожатая Зина. Она сочетала в себе качества Шаляпина, Дзержинского и Буратино. В смысле – имела зычный голос, строгий взгляд и тоненькие ножки. Зина говорила:
— Каждый суслик за лето съедает шестнадцать килограммов зерна…
Тридцать две булки хлеба, мысленно изумился я. Даже взрослый пионер съедает меньше!
События развивались быстро. На стене школы появился лозунг «Учащиеся, все на борьбу с полевыми вредителями!». Но вредители не дремали. В слове «полевыми» вражеская рука исправила «е» на «о». Исказив его идеологический смысл. Зато сделав его доступным пониманию учащихся. Не говоря уж о широких массах трудящихся.
Я попросил у матери денег. Хотел купить капканы на сусликов. Мать остудила мой охотничий пыл. Она заявила:
— Начальство все равно ворует больше…
Я не понял ее. То ли она одобряла начальство? То ли – жалела бедных сусликов?
Вообще станционная пацанва добывала сусликов всегда. Невзирая на наличие или отсутствие лозунгов. Не для выполнения плана по шкурозаготовкам. И не для повышения урожайности колхозных полей. А для удовольствия. Иногда с голодухи. Реализуя охотничьи инстинкты. И познавая объективную реальность через субъективные ощущения. Как говорят философы.
Короче, наша ватага шла на косогор. Как было сказано, гремя пустыми ведрами. Высмотрев стоящего столбиком суслика, мы бросались к нему. Грызун благополучно исчезал в норке. Один из нас оставался сторожить. Остальные бежали за водой. Благо, весной всюду журчали ручьи. Мы лили воду в норку. Мокрый суслик обязательно высовывался наружу. В этот момент его надо было схватить пальцами сзади за шею. Это считалось высшим пилотажем. После чего бедное животное топили в ведре. Или с размаху били о землю. Не догадываясь о библейских заповедях.
Обдирать сусликов нас учил сосед дядя Вова. Это был человек с внешностью плохо бритого орангутанга и походкой блатаря. Сквозь рыжую шерсть впалой груди, сутулой спины и тощих ляжек проглядывали синие картинки. Из жизни пернатых и ползучих. Вперемешку с рыцарской атрибутикой и начатками русского алфавита. Дядя Вова – авторитет шипуновской шпаны– знал в жизни толк. Он так и говорил:
— Учись у меня, фраера! В зоне пригодится…
Он брал в левую ладонь суслика. Иногда полуживого. Бритвочкой делал хирургический разрез от носа до хвоста. Потом – вдоль лапок. Почти без крови. Резким движением вытряхивал голое тельце из шкурки. Собаки хватали теплую сиреневую тушку. Едва она падала в пыль.
Чаще всего мясо мы оставляли себе. Сусликов жарили тут же. В худом ведре и в собственном соку. Или палили на огне. Жир стекал в костер.
Мой дружок Пашка Пашков грыз обугленную тушку. Хлопал белесыми ресницами. При этом говорил с чувством:
— Грызуны – фулюганы!
Санька Косинов жмурил веселые глазки. Он радовался:
— Пацаны, вкуснотища!
Я соглашался:
— Слаще морковки!
После сытной еды охотничий азарт исчезал. Причем вместе с идеей всенародного похода на грызунов.
Когда летние каникулы кончились, прогремела весть. Пионервожатая Зина забеременела. Видимо, в борьбе с полевыми вредителями. А может, и половыми.
Во всяком случае, я понял, что всенародная борьба до добра не доводит. Ни сусликов. Ни пионервожатых.
СВОБОДА, или В ЧЕМ СМЫСЛ СМЕРТИ
Впервые слово «свобода» я услышал от уголовника. Бывший зек дядя Вова с внешностью простуженного Мефистофеля кричал по праздникам:
— Порублю, суки! Век свободы не видать!
Я не боялся уголовников. Это были больные, понятные мне люди.
Безобидный сосед дядя Илюха к проблеме свободы относился с научной точки зрения. Он говорил:
— Свобода, ешкин свет, — это сознательная необходимость…
Я замирал от непостижимости жизни и недосягаемости ученых глубин. От бессмысленного миросозерцания меня, как всегда, отвлекала мать. В нашем домашнем хозяйстве постоянно происходили всяческие катаклизмы. На этот раз она объявила:
— Твоя любимая Астра загрызла трех цыплят. Зимой с голоду подохнет. Вернусь с работы – чтоб этой сучки в доме не было…
Ослушаться мать не приходило в голову. Я начал догадываться об истинном смысле слов дяди Илюхи.
Сдавленный писк куренка отвлек меня от философских раздумий. Видимо, любимая собачка одержала еще одну победу.
Ружья в доме не было. Отраву собака не ела. Вешать я не умел.
Вдвоем с младшей сестренкой мы подманили веселую Астру. Уложили на плаху. Жирная собачонка блаженно потягивалась. Цыплячий пух прилип к ее окровавленным усам.
Первой завыла от жалости моя сестренка.
Я зажмурился и махнул топором. Смертным воем отозвалась обреченная хищница.
Я уполз в кусты дикой смородины и присоединился к общему вою. В тех кустах я не постиг смысла жизни. В тех кустах я не постиг смысла смерти. Но я понял другое. Чтобы стать свободным, надо кого-нибудь убить…
Однажды я попал в щекотливую ситуацию. Но сначала сломал ногу.
Случилось это по окончании четвертого класса. Когда мы ездили за подснежниками на велосипедах. Велосипеда у меня не было. Поэтому я поехал на раме. Точнее, на раме меня повезли.
Сидеть тощим задом на раме очень тоскливо. Особенно, когда трясет на кочках. Поэтому я старался не думать о конкретном. Я старался думать об абстрактном. Например, что будет, если на полном ходу зацепить ногой о кочку? И зацепил.
Я заметил, что все жалуются на свое любопытство. Зато никто не жалуется на свою тупость. А еще мы жалуемся на свою память. Зато не жалуемся на свою несообразительность. Кстати, я не помню, какую именно ногу я сломал. Левую или правую?
Короче. Из деревни вновь приехала фронтовичка тетя Маша. Привезла детский костыль. Видимо, трофейный. Нещадно дымя беломориной, она сказала:
— Хромай на здоровье…
Младшая сестренка предложила разделить мою печальную участь:
— Можно я тоже с костылем побегаю?
Ученый сосед Илюха, отсидевший за непредумышленное убийство, произнес загадочно:
— Оступиться, ешкин свет, может каждый…
Бывший зек дядя Вова был строг. Он меня спросил:
— От армии, бля, решил закосить?
В армию я стремился всей душой. Однако пятиклассников туда не пускали. Кстати, замечено, в детстве мы страстно желаем того, от чего во взрослой жизни тошнит. Но это к слову.
В общем, я скакал на одной ноге. Мать запретила мне выходить с гипсом за ограду. Ковылять по родной станции с костылем я стеснялся.
За нашим огородом зеленели заросли чужой малины. Из зарослей хорошо просматривались окрестности. Там у меня был наблюдательный пункт. Через самодельный перископ я скрытно следил за передвижениями потенциального противника. Загипсованная нога усиливала ощущение прифронтовой полосы.
Однажды через зеркало перископа я обнаружил движущуюся цель. Цель двигалась между забором и кустами малины. Перископ ограничивал обзор. Пришлось чуть привстать. Цель оказалась незнакомым дядькой. Из-под которого виднелась знакомая хозяйка забора и малины. Я ничего не понял и привстал еще выше. После чего мы с ней встретились взглядом. Раздался крик.
Я поскакал прочь. На одной ноге. Притом махал трофейным костылем, как крылом. Видимо, пытался взлететь. Спрятался дома. Вечером к нам пришла хозяйка забора и малины. Причем со скандалом. Она так и заявила:
— Твой поганец сегодня мне всю малину вытоптал!
И победоносно предъявила самодельный перископ.
Моя мать ответила:
— Мой поганец вторую неделю в гипсе лежит!
И победоносно предъявила трофейный костыль.
— Алиби!!! – восхитился ученый сосед Илюха.
Я не сразу понял значение этого слова. Зато я понял другое: истина не всегда принадлежит очевидцу. Правда, злоумышленнику она принадлежит еще реже.
ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК, или КАК КОВАЛАСЬ ПОБЕДА
Моим любимым праздником был Новый год. С одной точки зрения, это было хорошо. Потому, что доказывало мою причастность к традициям культуры. С другой – бросало тень на остальные праздники. Как на мирные, так и на военные.
Я, например, никак не мог смириться с тем, что для революционных демонстраций кто-то выбрал самые слякотные дни. А с Международным женским днем вообще промашка вышла. На улице стужа, и про цветы не додумали. Ну откуда в марте цветы? Тем более, на захолустной станции!
Таким вот образом я испытывал некую детскую неудовлетворенность жизненным расписанием. Да и учиться было лень. Короче, единственным полноценным праздником оставался Новый год. Точнее, школьный бал-маскарад.
На новогодних торжествах меня воодушевляли подарки от Деда Мороза и Снегурочки. В серо-желтых бумажных пакетиках, с пряниками. Замечательные были времена – пряники вдохновляли.
В общем, решил я завоевать первый приз за новогодний костюм. Победить можно было лишь в образе богатыря. Или витязя. И в таком же наряде. Так я полагал.
Победа ковалась все лето. Я собирал на базаре жестяные пробки от бутылок. Пробивал гвоздем с четырех сторон и нанизывал на проволоку. Получался блестящий панцирь. Почти настоящий!
— Ты бы лучше пустые бутылки собирал, — сказала мать. – Хлеба купить не на что…
Я не реагировал. Ничто не могло помешать исполнению моей мечты. Я продолжал кузнечно-прессовые работы. Богатырский меч, шлем и щит сделать не составило труда. В дело пошла фольга. Завершением костюма стал богатырский плащ. Из красной скатерти.
Панцирь мой стал объектом соседских пересудов. Дядя Илюха – аналитик и шоферюга с внешностью удивленного карася – пошевелил губами и объявил:
— Ешкин свет, восемьсот сорок две пробки!!
Сосед дядя Вова, пошмыгав красным носом, не удержался от восторга:
— А я, бля, думал, что пионеры не пьют!
Как всегда, не остался в стороне дед Свечкарь:
— Ото ж я кажу, пороть хлопця трэба…
И вот наступил долгожданный бал-маскарад. С предчувствием победы. Или триумфа. А может быть, даже любви.
Вот тут-то стало ясно, что победу ковал себе не только я. Неожиданным соперником объявился Колька Калякин. Такой же выдумщик и фантазер. И претендент на первый приз. Свои силы он положил на костюм мушкетера. Видимо, полагал, что французское фанфаронство сможет превозмочь русский характер. Сдобренный, кстати, хохлацкой воинственностью.
Мы с ним завладели всеобщим вниманием. Один из нас должен был стать победителем. В духе средневекового рыцарства. Выяснять отношения пришлось в коридоре. Дуэль русского витязя из былины с французским мушкетером из романа началась при секундантах. О которых сразу же забыли. Меч скрестился со шпагой. Щепки полетели по коридору. Вместе с новогодней мишурой и слезами. Растащили нас учителя физкультуры. За шивороты. Или что там у нас оставалось.
В зал, где присуждались призы, мы вернулись слишком поздно. В хорошей спортивной форме. Но в рваных нарядах.
Первый приз получила одна зеленоглазая зазнайка за костюм цыганки. Или молдаванки.
Так и не сбылась моя детская мечта. Зато появилась другая. В зеленых глазах которой отражались бенгальские огни. И мой лопоухий силуэт.
А Новый год так и остался любимым праздником.
НОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ, или ЗА ЧТО ОТРЫВАЮТ РУЧОНКИ
Однажды я чуть не отморозил себе уши. Это случилось в тот год, когда я впервые услышал про Леонида Ильича Брежнева. Про красивого и молодого. Не в пример старому и лысому.
Но речь не о моих ушах. Просто в это время я впервые взял в руки брошюру по гражданской обороне. Это был совершенно иной мир!
Я с упоением читал про фосген. И про иприт. И про синильную кислоту с запахом горького миндаля. Никто на нашей станции в глаза не видел этого миндаля. Но все говорили про его горький запах.
Особенно горячился ученый сосед Илюха. Он так и говорил:
— Да пошли они все в миндаль! Лучше бы водку дешевле сделали…
Ему возражал бывший зек дядя Вова:
— Догавкаешься, бля, заберут…
Больше всего мне нравилось рассматривать картинки про самодельные убежища от атомной бомбы. Картинки вдохновляли.
Вдвоем с другом Пашкой Пашковым стали рыть траншею в огороде его бабки. Через грядку с укропом. За что получили трепку. Пашкин дед, понюхавший иприта еще в Первую мировую, на наши старания смотрел с сочувствием. Он так и говорил:
— Сечь… Сечь вас надо… Эх, безотцовщина…
Мы же отдались во власть игры с названием «Защита от ядерной атаки». Полигоном стал наш огород. Первое убежище сильно смахивало на могилу. Мне оно не нравилось. Пашке тоже. Но остановиться мы уже не могли.
Я сам стал придумывать конструкцию неприступного убежища. Причем защитой от проникающей радиации пренебрегал. Зато предусматривал потайные ходы и подземные арсеналы. Не забывал и о бойницах для спаренных крупнокалиберных пулеметов. По просьбе младшей сестренки рисовал бойницы для дамских пулеметов. И совсем крохотные оконца – куклам тоже были нужны пулеметики.
Помню, как хмуро заходили тучи на советско-китайской границе. На случай вражеского десанта мы с Пашкой решили пробить подземный туннель из погреба в сарай. Работа велась тайно, земля рассыпалась в огороде. Глина – на дороге. Когда подкоп был почти готов, случилось непредвиденное. Оказывается, свинья Мотря, жившая в сарае, тоже рыла землю. Видимо, ее тоже охватил патриотический пафос. Или военный психоз. Возможно, она тоже спасалась от американских агрессоров. Или от китайских мародеров. В общем, случилось страшное. Свинья провалилась в наш подземный ход. Произошла стыковка. Как на орбите. Разрушительные последствия оказались сравнимыми с воздействием ударной волны.
Объяснение с матерью я опускаю. Из скромности. Мотрю вытаскивали из подкопа с помощью соседей.
Небезызвестный дядя Вова меня похвалил. Он сказал:
— За такие подвиги, бля, в зоне ручонки отрывают…
На этом мое увлечение гражданской обороной сошло на нет. Вместе с ним через неделю сошли кровоподтеки от ремня. Но уроки детства не прошли даром. Если среди ночи меня разбудит дрожь земли и яркое сияние из-под грибовидного облака, я знаю, что делать. Я лягу ногами к эпицентру взрыва и закрою уши руками. Чтобы не обморозить…
БРИТОГОЛОВЫЕ, или О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ
Однажды нашу станцию захлестнула волна преступности. Или накрыла. Кому как нравится. Обнаружилось это на следующий день после показа одного заграничного фильма. Он назывался «Шайка бритоголовых».
Я не помню сюжета. Помню, что эти бритоголовые дрались друг с другом. Но грабили посторонних.
Фильм оказал мощное прогрессивное влияние на подрастающее поколение зрителей. Половина пацанов постриглась наголо. Не говоря уж о допризывниках. Прокатилась волна ночных грабежей.
Каждое утро взрослые делились последними новостями. Почему-то с восторгом. Особенно радовалась бабка Горпина. Она говорила:
— Своячена брехала, мол, бабу директора райбазы раздели. На одних шпильках домой вернулась!
Судя по реакции, моя мать в принципе одобряла действия правонарушителей. Но сомневалась:
— Какие шпильки? На дворе-то зима!
Неверующая бабка Горпина делала круглые глаза. Божилась:
— Вот те крест! Сама видела…
Разбои продолжались.
Друг детства Пашка Пашков рассказывал взахлеб:
— Фулюганы парикмахера поймали. И раздели. И обрили. Одни уши остались!
Я согласился, что обмороженные уши украшают настоящего мужчину. А парикмахера особенно.
Потом прибежал Санька Косинов. В старых валенках на босу ногу.
Моего дружка Саньку почему-то любили пожилые женщины. Особенно учительницы. Видимо, за веселый нрав и наблюдательность. Он их тоже вниманием не обделял. Он так и заявил с порога:
— Пацаны! С нашей училки шапку сняли! Вместе с шиньоном!
Вся станция только и говорила о ночных грабежах с раздеваниями. Искали способы борьбы с «бритоголовыми». Радикальное средство предложил мой старший брат Витек. Он сказал:
— Давайте свою шайку организуем. И головы побреем, а?
Я был наивен. Поэтому спросил:
— Кому?
Потенциальный главарь удивленно раскрыл свои небесно-голубые глаза. И посмотрел на моих друзей.
Пашка Пашков с сожалением произнес:
— Мне нельзя фулюганить. Мамка из дому выгонит.
Санька Косинов родителей не боялся. Он сказал прямо:
— Не-е-е, у меня шапка дырявая. Голова замерзнет…
Так на моих глазах рухнула попытка создать бандформирование. Из числа юных пионеров. Не считая вернувшейся из детсада сестренки.
Тем не менее ночные грабежи с раздеваниями не прекращались.
А народ валом валил смотреть мордобойный фильм. Несмотря на запреты. Особенно старались несовершеннолетние. Они лезли в зал после звонка. Через подвал. Через крышу. О будке киномеханика я уж и не говорю.
Перехожу к главному. В это время я впервые услышал о роли личности в истории. В драматический момент социального напряжения. Для родной станции. И становления собственного характера. Дело было так.
Жил в то время на станции неприметный мужичонка. Звали его Иваном Иванычем. Работал он в милиции. После службы в погранвойсках. Сослуживцы и начальство знали, что он самбист. Но значения этому не придавали. Более того, не повышали по службе. Уж такой он был маленький! Да щупленький! И не вызывал к себе никакого уважения. Не говоря уж о чинопочитании.
Иван Иваныч был человеком мирным. Но честным. Более того – совестливым. Однажды ему надоели разговоры о бесчинствах «бритоголовых». Он снял портупею. Вместо ушанки с кокардой напялил лисью шапку. И вышел в ночь. Как свободный охотник.
В первом же переулке его принялись грабить. Но ненадолго. После чего нападавшие сдались. Более того, согласились добровольно сходить в райотдел милиции.
На следующий вечер жена Ивана Иваныча вновь осталась сидеть дома одна. А супруг вышел подышать свежим воздухом. Через пару шагов наш герой обнаружил, что его раздевают. Бывший пограничник неназойливо пристыдил хулиганов. Потом связал всех шарфиками и проводил по назначению. После чего двинулся домой. Но сразу вернуться не смог. Потому что треклятая лисья шапка привлекла внимание любителей дармовой поживы. И даже больше – с него успели снять казенную шинель. Трудолюбивый Иван Иваныч обиделся. И растянул связки расхитителям государственного имущества, положив их лицом в снег. После этого гуманного акта передал бедолаг дежурному. Кроме того, помог ему же составить протокол задержания. Если верить росказням бабки Горпины.
Таким вот образом скромный Иван Иваныч трудился несколько вечеров подряд. Во вторую смену. Не требуя сверхурочных.
За неделю волна грабежей сошла на нет. Сошел с экрана и тот фильм. И мода на бритье голов. Потом ушел из милиции Иван Иваныч. Говорили, из-за превышения полномочий. Или – норм самообороны. Так и не дождавшись повышения.
Все прошло. Но кое-что осталось. Осталось детское восхищение скромными героями. И вера в исключительную роль личности в истории… В границах райцентра.
ТЕЛЕВИЗОР, или ДОЖИТЬ ДО КОММУНИЗМА
Эпоха телевидения ворвалась в мою личную жизнь воплем бабки Горпины. Сначала я подумал, что горит ее землянка. Потом выяснилось, что так думал не я один. На помощь уже бежали люди с соседней улицы.
Бабка Горпина принесла оглушительную новость:
— У Верки тиливизер заработал!
Народ устремился на звуки работающего телевизора. Распугивая при этом возвращающихся домой коров.
Дом владельцев телевизора превратился в постоялый двор. Каждый вечер соседи набивались в комнату. Все смотрели передачу «Голубой огонек». Иногда на экране ничего не происходило. Тогда смотрели на буквы:
«Показывает Барнаул».
Хозяева ужинали, уходили в баню, возвращались. Перед телевизором обнаруживали гостей. Иногда спящих. Чаще всего – на полу. Реже в постели. Иногда обутых.
Политически подкованный сосед Илюха однажды с восхищением сказал:
— Вот, ешкин свет, и дожили до коммунизма!
Дядя Вова поддакнул:
— Точно, бля, как на зоне. Только нар не хватает…
Хозяин дома и телевизора спохватился:
— Щас сколочу…
Я сидел на корточках и сосредоточивался над таинственным устройством телевизора. Я думал, как столько людей помещается в одном ящике? Ну ладно, одну тетку засунуть туда можно. Да и то самую маленькую. А остальных?! Мозги мои лопались от напряжения и просились наружу.
Мать это заметила и сказала:
— Чего глаза вывалил? Марш домой спать!
Я спал, и мне снились черно-белые дикторы телевидения. Мне снились приключения капитана Тэнкеша из одноименного телефильма. Мне снились четыре танкиста с их собакой. Мне снились подвиги польского разведчика майора Клосса с его ставкой больше, чем жизнь. И еще многое, многое, напрочь забытое.
ДЕТСКАЯ НЕЛЮБОВЬ, или О ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Хочу сказать прямо: чехов я в детстве не любил. А за что их было любить! За то, что они наших в хоккей обыгрывают?
Мой друг Пашка Пашков эту нелюбовь полностью разделял. Он говорил:
— Хоть бы наш Рагулин ихнему Поспишилу в морду дал!
Я поддерживал:
— А Харламов бы – Бубле! Кужеле – тоже можно. Не говоря уж о Махаче.
Пашка уточнял:
— Недомански – фулюган!
Я делал оригинальные выводы:
— Поляки лучше.
Мой друг выкатывал глаза. Он не верил:
— Почему? Они даже в хоккей не играют!
Уже в то время я владел искусством полемики. Я спросил:
— А ты смотрел по телеку кино «Ставка больше, чем жизнь»? Там про польского разведчика!
Крыть Пашке было нечем. Поэтому он соглашался:
— Правильно, что мы наши танки в ихнюю Чехословакию ввели.
Я сомневался. Я чехов не любил. Более того, я жаждал крови. Поэтому говорил:
— Зря! Пусть бы они помучились под гнетом капитала!
Никто не остался равнодушным к этим событиям. Начитанный сосед дядя Илюха на помощь братской Чехословакии смотрел с научной точки зрения. Он говорил:
— Начальству, ешкин свет, виднее…
Бывший зек дядя Вова, наоборот, был настроен лирически. Он размышлял вслух:
— Мы, бля, без войны не можем… Нам, бля, ордена подавай…
Чем он был недоволен, мы с Пашкой так и не поняли. То ли не хотел чехам помогать? То ли орденоносцам завидовал?
В общем, хоккейные чемпионаты сильно расширили мой кругозор. Зато окончательно притупили политическую интуицию.
Я вот думаю, что было бы, если бы вместо чехов против нас в хоккей играли американцы? Или китайцы. Началась бы третья мировая война или нет?
МОЙ КРЕСТ, или ЧТО ТАКОЕ ДЕКОЛЬТЕ
Я рос скромным, но влюбчивым мальчиком.
Скромность была медалью, которую навешивали на меня знакомые взрослые. А влюбчивость была крестом, который я несу на себе до сих пор. Действительно, что может быть противнее навязанной добродетели! И горше неразделенной любви!
Как уже упоминалось, рос я скромным, но увлекающимся. Иными словами, был непрерывно в кого-нибудь влюблен.
Октябренком я глазел на всех отличниц одновременно. Выбора я так и не сделал. Впрочем, я и не догадывался, что его надо делать. Зато отличницы выбор сделали давно. Они любили Юрия Гагарина.
В пионерском возрасте я страдал по девчонке, которая в начальных классах отличницей не была. Но потом стала. Звали ее Ленкой. Жили мы по соседству. Играли вместе в прятки и в войну. Кроме того, вместе скакали через скакалку. Касаясь друг друга коленками. Я думал: вот перейду в следующий класс – и признаюсь ей в любви. Мы продолжали скакать. Так проходил год. Я по-прежнему думал: вот перейду в следующий класс – и… Все кончилось внезапно. Ее семья переехала жить куда-то на юг.
Умудренная жизнью бабка Горпина посочувствовала:
— Допрыгался? Увезли невесту-то…
Дед Свечкарь на проблемы семьи и брака смотрел шире. Он сказал:
— Усих дивчин нэ пэрэмацаты…
Самым ранним чувственным потрясением для меня стал первый урок английского языка. Потряс меня не урок. Потряс не только меня. Полкласса безнадежно влюбилось в учительницу. Впервые я обнаружил, что у женщины есть ноги. Причем непостижимой красоты. А на ногах – капрон. А на капроне – туфли на шпильках. А в туфельки можно было смотреться как в зеркало. А на лице самостоятельно жили ее восхитительно-порочные помадно-алые губы. Кроме того, я наконец-то понял, что такое декольте. Хотя понятие это из французского языка. Можно представить, какие бездны открывались перед потенциальным полиглотом! А еще прогремело восторженно-осуждающее: еврейка!!! В довершение всего поползли слухи, что она – рассекреченная разведчица.
В общем, школа переживала эмоциональный стресс.
Завхоз начистил до блеска свои кирзовые сапоги. И не снимал их до зимних каникул.
Учитель физкультуры надел галстук. Правда, поверх футболки.
Двоечник Подкопаев пересел с «камчатки» на парту перед учительским столом. Видимо, от тяги к знаниям. На носок своего ботинка он ставил зеркальце. Пользовался им как перископом.
Второгодник Замаруев выучил английский алфавит. Зато русский забыл окончательно.
Мужской туалет украсился изображениями женских торсов. Или бюстов. Я до сих пор путаюсь в терминологии.
Появление этой женщины на нашей захолустной станции вызвало оживленные дискуссии.
Знаток по женской части дядя Илюха выразился таинственно, но поэтически:
— Знавался, ешкин свет, я с дочерьми Давида…
Большой друг закона дядя Вова ему возразил:
— Я, бля, из-за бабы топтать зону не хочу…
Что он этим хотел сказать – я не понял. Зато понял, что это – удар по моему неокрепшему пионерскому мировоззрению. Удар, правда, теоретический. Практический удар по моему светлому чувству нанес ленинский комсомол. Точнее, его лучший представитель. Или даже провозвестник. Дело в том, что моя любовь вышла замуж за секретаря райкома комсомола.
Мне стало ясно, что для счастья создан не я. И понес свой крест дальше.
УРОКИ РИСОВАНИЯ, или ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПАЛИТРА ОТ ПОЛИТУРЫ
В детстве я любил рисовать. Более того, считал себя талантливым. Во всяком случае, взрослые мое убеждение поддерживали.
Я рисовал стихийно, но вдохновенно. Правда, на страницах книг. Поэтому я смело могу утверждать, что с младенчества меня тянуло в литературу. Я рисовал тракторы, часы, спутники. Это понятно. Отгремела целинная эпопея. Начиналась космическая эра.
Мать благосклонно относилась к моим упражнениям. Видимо, я не докучал ей во время расправы над очередной книжкой.
Процесс моего художественного образования взяла в руки тетка по материнской линии. Женщина с внешностью бабелевской Баськи. И характером гоголевской Хиври.
Я звал ее мамой Клавой. Она научила меня рисовать по клеточкам.
Мои опусы увидел бывший зек сосед дядя Вова. Татуированные грудь и ляжки выдавали его художественную натуру. Дядя Вова мое увлечение одобрил. Он сказал:
— Молоток! В зоне без баланды не останешься!
И еще несколько комплиментов на блатном жаргоне. Странно, но я все понимал из его лагерной фени.
Учиться в школе мне нравилось. В нашем классе оказались два художника: Колька Калякин и я. Мы с ним были совершенно разные. Он был смуглым и курносым холериком. Я – бледным и лупоглазым флегматиком. Что не мешало ему впадать в приступы меланхолии на контрольных. А мне буйно дурачиться на переменах. Творили мы одновременно. Калякин рисовал рыцарей, срывая урок на одной половине класса. Я резал на парте барельеф Александра Невского, срывая урок на другой половине.
Одноклассники восторженно взирали на свободный полет нашей фантазии. И формировали свои эстетические вкусы. Некоторые стали перенимать наши приемы. И орудия труда. Объявились резчики по дереву в параллельных классах. Процесс стал неуправляемым, как половодье.
Этот период запомнился гонениями на творческую молодежь. Школьный завхоз с внешностью небритого свекольного корнеплода охотился за резчиками. Нападал на них в школьном туалете и отбирал ножики.
Он обычно кричал:
— Мальчик, сволочь, стой здесь! Кто твои родители?
Потом размахивался и бил в ухо. Последователь методов Макаренко сгорел неожиданно. Причем благодаря своему трудолюбию.
А было это так. В кабинет директора привезли полированную мебель. Впервые в истории школы! На этой мебели старательный завхоз наляпал инвентарные номера. Самодельным квачем и половой краской. Чуть-чуть хуже, чем на борту школьного грузовика.
Сей творческий акт побудил педсовет задуматься о роли художника в жизни общества.
Так у нас появился настоящий учитель рисования. Его звали Борисом Владимировичем. У него была самая распространенная на Руси фамилия. И внешность репинского бурлака. Четвертого слева.
Среди его педагогических приемов доминировал «метод парадокса».
Он, например, спрашивал:
— Какого цвета небо?
Все дружно отвечали, мол, голубого. Учитель удовлетворенно улыбался. После чего показывал пейзаж художника Рериха с торжественно-розовыми небесами. В другой раз наш учитель спрашивал:
— Какого цвета вода?
Мы радостно кричали, мол, синего.
Учитель разворачивал иллюстрацию картины Айвазовского с жутко зелеными морскими глубинами.
Однажды он принес два портрета. Один из пионерской комнаты. Другой – из учительской. Потом спросил:
— Какого цвета глаза у дедушки Ленина?
Мы так и ахнули. С одного портрета смотрел голубоглазый Володя Ульянов. С другого – кареглазый вождь российского пролетариата. Наш учитель рисования торжествовал. Видимо, в предчувствии философского озарения. Или после. Он сказал:
— Так бывает. Содержание важнее формы. Особенно в искусстве…
Потом то же самое он повторил в кабинете директора. Взирая на ту саму. полированную мебель. И невзирая на лица.
Таким вот образом Борис Владимирович заложил нам основу миропонимания. И дал профессиональные уроки искусствоведения. Тем, кто этого хотел. Несмотря на сомнительное теоретизирование. Еще он познакомил нас с рукой рисовальщика Серова и глазом живописца Кипренского. И научил отличать солнечного Венецианова от лунного Куинджи. Кроме того, объяснил, чем отличается натюрморт от портрета. А палитра – от политуры.
Сам же частенько путал политуру со спиртом. Иногда смешивал. Особенно после истории с портретами. На этой почве у него укрепилась дружба с опальным завхозом. Они уединялись на складе. Звякали стеклом. Возможно, стаканами. Видимо, обсуждали педагогические проблемы. Или даже – искусствоведческие. Не хочу возводить напраслину. Во всяком случае, однажды я оказался нечаянным свидетелем этой дискуссии.
Обиженный судьбой завхоз энергично размышлял о прекрасной половине человечества. Точнее, делился опытом семейной жизни. В форме монолога:
— Манька, говорю, сволочь, перестань на людях задом вилять!
Учитель рисования был полностью солидарен. Правда, с Манькой. Потому что твердил:
— Так бывает… Форма важнее содержания… Особенно в жизни…
Я не знаю продолжения того разговора. Точнее, не помню. Зато на всю жизнь запомнил, что форма и содержание каким-то непостижимым образом зависят друг от друга. Но это знание не прибавило мне ума. Может быть, потому я иногда спрашиваю себя:
«Если бы тогда завхоз не испортил директорскую мебель, научился бы я рисовать?»
ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ, или ПОМОЩЬ ДЛЯ РОДИНЫ
В детстве игрушек у меня не было. Поэтому я играл железяками. Ими был завален весь двор. И часть огорода.
Почему-то я все детство собирал металлолом. Я не помню, кто меня этому научил. Это значит: либо у меня короткая память, либо врожденная неблагодарность учителям.
Однажды на пионерской линейке я обнаружил, что я – борец. Более того, борцом будет весь наш шестой «А» класс. Позже выяснилось: мы боремся за первое место по сбору металлолома.
Сомнений не было. Детский энтузиазм выплеснулся на пыльные улицы родной станции. Сыны тащили в школу запчасти от отцовских мотоциклов. Дочери – кастрюли от мам.
Потом стали твориться совсем непонятные вещи. Из районной котельной исчезли чугунные колосники. В мастерских Сельхозтехники пропали гусеничные траки. С запасного пути неведомая сила унесла рельсы.
Злые языки утверждали, что те рельсы просто стерлись. Видимо, от долгого стояния бронепоезда. Были и другие версии. Подозрения, например, падали на пришельцев из космоса. Более трезвые намекали на происки иностранных разведок.Вспоминали недобрым словом шпиона Пауэрса. И лишь пионеры из нашего класса знали, как нелегок путь к победе. И как тяжелы изделия сталепрокатного стана.
Соревнование набирало силу. На конторе «Вторчермет» появился лозунг «Сталь – мартенам!». Прохожие недоумевали. Вездесущая бабка Горпина попыталась внести ясность в содержание призыва. Она предположила:
— Может быть, «Мартынам»?
Ученый сосед дядя Илюха отмел ее догадку, как политически незрелую. Он произнес непонятное:
— В ЦеКа нет ни одного Мартына…
Учитель физики Кривоносов тоже поучаствовал в дискуссии. Он спросил:
— Может быть, не сталь? А все-таки железный лом?
На том и порешили. Но соревнование продолжили.
В нашем классе Жека Жилин был главным заводилой. И физкультурником тоже. Поэтому именно он обнаружил на школьной спортплощадке небольшую железяку. Решил принести ее, чтобы класс занял первое место. Он обкопал ее со всех сторон. Оказалось, что железяка имеет продолжение. Пришлось углубиться. Пришла подмога. Железяка промышленного назначения тянулась через яму для прыжков в длину, терялась на середине футбольного поля.
После обеда появился завхоз по фамилии Лиходед и по кличке Лиходед. Красное от трудной жизни лицо его стало свекольным. Он сообщил:
— Живьем закопаю, сволочи! Кто ваши родители?!
Сначала мы побежали. По привычке. Потом одумались. Мы же Родине помогаем! Тем более, что башенный кран откопали.
В общем, опередили мы всех в сборе металлолома.
На торжественной линейке было объявлено, что из нашего железа будет сделан автобус. Что он будет возить пионеров в отдаленные села нашего района…
О нашей победе узнала вся станция.
Ученый сосед дядя Илюха сознался:
— Это ж мы, ешкин свет, кран уронили. Когда школу строили…
Видавший виды матерщинник дядя Вова искренне порадовался:
— Ну вы, бля, даете!
Я так и не понял, кого он хвалил. Наш ребячий энтузиазм или злостного вредителя дядю Илюху?
Пионерский автобус так никогда и не появился. Зато три пятилетки торчала у футбольных ворот станина башенного крана.
Я иногда думаю, что было бы, если…
Если бы дядя Илюха не ронял кран?
Если бы Жека Жилин не занимался спортом?
А у меня в детстве были бы игрушки?
ЧЕРНЯК, или УРОКИ МОРСКОГО ВОЛКА
Как всякий инфантильный мальчик, я мечтал быть моряком.
Замечено, чем меньше потенциал, тем больше амбиций. И наоборот. Чем больше возможностей, тем меньше претензий.
Так вот, я мечтал быть моряком. В младенчестве у меня была бескозырка. Сожаления о ее утрате долгие годы подрывали мое здоровье.
Первый опыт морского путешествия я получил, заплыв в цинковой ванне на середину обширной лужи. Диалог со стихией закончился утратой плавучести судна. О чем я и возвестил отчаянным ревом. После завершения спасработ я был старательно отшлепан любящей матерью. И отлучен от первого в моей жизни плавсредства. Приговор был краток. Мать сказала:
— Утонешь – убью!
Ученый сосед дядя Илюха, наоборот, был полон оптимизма. Обращаясь к моей матери, он сказал:
— Поздно! Сразу, ешкин свет, не захлебнулся, теперь не утонет.
Я воспрял духом.
Учась в шестом классе, я встретил настоящего морского волка. На нашей сухопутной станции он появился внезапно. Это был смуглый офицер из фронтовых «сынов полка». Точнее, из юнг. В черном кителе и с внешностью язвенника. И фамилия у него была подходящая – Черняк. Ходили неясные слухи, что он сослан.
Кем сослан? Зачем сослан? Никто не знал. Но ореол таинственности мерцал над его черными погонами.
Черняк организовал мореходный кружок в Доме пионеров. Он нас учил технике безопасности на воде, русской семафорной азбуке и азбуке Морзе. От него я впервые услышал о беспрекословном подчинении командиру. В его столе я случайно увидел фотографию. На снимке Хрущев стоял рядом с Жуковым. Над «кукурузником» все потешались. Полководца любили. Я думал, почему так? Наверное, никто не хотел работать. Зато все хотели воевать…
Но вернемся к Черняку. На занятиях он чеканил каждое слово:
— Морские узлы должны быстро завязываться, легко развязываться и сами не отдаваться.
Потом впивался в нас страшным взором и повторял:
— …Сами не отдаваться!
Черняк исчез внезапно. Как и появился.
А детство продолжалось. Жажда приключений гнала меня на новые авантюры, связанные с борьбой за жизнь на водах. Я вот думаю, чего я лез в воду? На земле ведь тоже было место подвигам!
У меня был школьный приятель Санька Косинов. Нас объединяла тяга к рыбалке и купаниям. Санька рыбачил исключительно из удовольствия. Меня заботил улов. Что не мешало моему дружку добывать по сниске пескарей. А мне хвастаться окунями, которые сорвались с крючка. Кроме того, мы с ним зачитывались романами Жюля Верна. И увлекались техническим творчеством.
Апофеозом наших усилий оказалось создание и испытание батискафа. Субмарина была собрана из деревянной бочки, старого самовара, резиновых шлангов, веревок, двух зеркальцев и тележки. Причем своими были только веревки и энтузиазм. Остальное было чужим.
Погружение происходило тайно. Такелаж я вязал сам. Использовал навыки, полученные в мореходном кружке. Мы спустили наше детище на воду. Забрались внутрь. Санька закрыл люк. Батискаф погружаться не хотел. Более того, лег на бок, грозя полным переворотом. Как говорится, последствия наших деяний застигли нас врасплох. Свет, настойчивость и интерес к исследованию глубин иссякли одновременно. Кроме того, через перископ потекла вода. На этом месте мемуары могли бы закончиться.
Однако в сырой тьме я услышал голос капитана Черняка:
— …Сами не отдаваться!
Я увидел трюм гибнущего крейсера «Варяг». И матросов, закрывающих пробоины телами. Мы с другом тоже легли телами на предательские щели. Мы оглохли от взрывов. А может быть, от крика.
Мир не без добрых людей. Хорошая бочка привлекла чей-то внимательный глаз. И хозяйственный интерес. Новоявленные Огюсты Пиккары были вынуты из пучины. Потом нещадно выпороты. Силами доброжелателей из числа близких родственников. Но под руководством любящих родителей. Пороли теми самыми чужими шлангами. Лучше бы, конечно, своими веревками. По этому поводу Санькин старший брат пошутил. Он сказал:
— Утоните – домой не приходите!
Спустя много лет его шутка сбылась. И мой приятель Санька домой не пришел. Вместе с ним ушло и не вернулось детское ощущение радости. Или счастья. И желание стать моряком.
ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ, или ЧТО ДЕЛАТЬ БЕЗ ШТАНОВ
Первые деньги, будучи пионером, я заработал за писание лозунгов к 50-летию Октябрьской революции.
Дело было так. У меня прохудились штаны. Потребовались деньги. Моя мать в то время работала не то секретарем, не то делопроизводителем в какой-то конторе. Она привела меня к себе на работу. Там лежали на полу три полосы красного ситца.
Я взял коробочку зубного порошка. Развел его на молоке. Добавил капельку канцелярского клея. Прикрывая прорехи на штанах, нарисовал кисточкой три раза девять букв и один знак: «Слава КПСС!»
Парторг Фомченков, сморщенный, но энергичный дядька, восхитился моим художественным даром. Он подбодрил меня:
— Платить надо! Не много, но надо.
Потом подумал и уточнил:
— Надо, но не много…
Поэтому заработанных денег на новые штаны не хватило. Зато я приобрел профессию. Правда, потерял свободу.
С той поры в школе мне стали ежедневно поручать оформление стенгазет и наглядных пособий. Это называлось общественной нагрузкой.
Учительница русского языка понуждала меня чертить плакатным пером правила орфографии и синтаксиса. Через всю жизнь я пронес в себе стойкую ненависть к падежам, склонениям и каким-то спряжениям. Не говоря уж о безударных гласных.
Преподаватели ботаники и географии тоже оседлали новоявленного оформителя. За ними потянулись учителя старшеклассников. Я с обреченностью узника вырисовывал на ватмане таинственные математические загогулины. Наконец, слухи о нездоровой эксплуатации ученика дошли до директора школы. Второй раз в жизни меня пригласили в директорский кабинет. Обладатель хоккейной фамилии и хозяин кабинета спросил:
— Это правда, что из-за общественных нагрузок ты не успеваешь уроки учить?
Я замычал в ответ. Директор обрадовался.
— Молодец! Завтра вместо уроков будешь красный уголок оформлять…
Потом вместо урока пения я чего-то красил в Ленинской комнате Дома пионеров. Потом вместо урока физкультуры меня ждало оформление сцены для какого-то торжественного собрания.
Потом в школу нагрянул инструктор из райкома. Это был бритый до синевы бодрый мужчина в белой рубашке и красном галстуке. Из-под галстука виднелась волосатая грудь. Он с удовольствием осмотрел школьные коридоры, увешанные моими художествами. Поинтересовался, чья работа. Меня представили. Инструктор сказал:
— Вступишь в комсомол, доверим оформлять партийную конференцию…
И я понял, что человек – кузнец собственных несчастий. Тем более человек без штанов.
ПАССАТИЖИ, или ОРУЖИЕ ДЛЯ ЗАЩИТНИКА
Оружие я обожал с детства. Как всякий защитник Родины. Безотчетно. Я приставал ко всем, хотел знать, какое оружие самое лучшее. Мать сказала:
— Лучшее твое оружие – пятерки по русскому языку.
Я усомнился и получил подзатыльник. Мать была далека от моих технических интересов и эстетических идеалов. Честно говоря, у нее своих забот хватало: я рос без отца. Однако мне повезло.
Наш сосед жилэлектрик дядя Вова, бывший зек, на мой вопрос дал неожиданный ответ:
— Лучшее, бля, оружие – пассатижи.
— Почему? – изумился я.
— Под статью Уголовного кодекса не подпадают…
А я-то думал, что лучшее оружие – маузер. Или, в крайнем случае, противотанковый пулемет. Не считая атомной бомбы.
В последний год правления Хрущева на нашей станции открылся тир. Это был загон, обшитый кровельным железом. С прилавком, с пневматическими винтовками и дедом Сухиным. Активистом ДОСААФа и ветераном ОСОАВИАХИМа. Его помнили с довоенных времен и потому побаивались. Тир был увешан плакатами. На одной стене висел лозунг «Слава Великому Октябрю». На другой – «Слава великому Ленину».
Я целился, как мог, в мишень. При этом думал: «Кто главнее – Ленин или Октябрь?». Потом тянул пальцем за спусковой крючок. Пулька, рикошетя от жестяной стены, била мне в лоб. После чего я делал далеко идущие выводы:
— Слабое оружие…
Начитанный сосед дядя Илюха озадачил меня больше всех. В минуту борьбы с похмельным синдромом он сказал:
— Печать – боевое оружие партии!
Я недоумевал. Какая такая партия? Может быть, парта? И как можно драться чернильной резинкой на дощечке? В общем, авторитет соседа Илюхи сильно пошатнулся.
Будучи пионером, я обнаружил в школьной Ленинской комнате красочный альбом с карикатурами художника Маяковского. На обложке альбома грудастый красноармеец шлепал свернутой в трубку газетой «Правда» блохоподобных буржуев. «Печать – боевое оружие партии» — гласил заголовок. Я все понял. Дядя Илюха законно вернулся на пьедестал. Со своим уголовным опытом. И политической интуицией.
Среди школьных дисциплин у нас была начальная военная подготовка. Мы маршировали, разбирали пулемет Дегтярева, стреляли из малокалиберной винтовки. Военруком был отставной офицер с комплекцией голодного леопарда. На переменах он укреплял школьную дисциплину. На уроках формировал патриотизм и коммунистическое мировоззрение у подчиненных учащихся.
Он так и говорил:
— В моей руке силы ровно столько, чтобы любому из вас сломать шею.
Ему верили.
Неожиданно выяснилось, что я – лучший стрелок. Военрук отвел меня в сторонку, предложил ехать на соревнования. Потом строго спросил:
— Тебя кто учил?
Я оказался нескромным. Я ответил:
— Само получается.
Обладатель тяжелой руки не поверил:
— Само, говоришь? Тридцать из тридцати? А какое оружие ты предпочитаешь?
Мне показалось, что меня принимают за шпиона. Поэтому я ответил честно. Как учил бывший зек дядя Вова.
— Пассатижи.
Военрук озадачился:
— Почему?
— Под статью Уголовного кодекса не подпадают.
Сторонник патриотического воспитания положил свою ладонь на мою худую шею. Сузил желтые глаза. Видимо, его восхитил мой кругозор. Или озаботил. На соревнования по пулевой стрельбе меня не пустили. Я пожаловался матери. Как всякий нормальный защитник Родины. Я спросил:
— Ну почему?
Мать знала. Она ответила:
— Потому что самое лучшее твое оружие – пятерки по русскому языку…
Потом добавила:
— И литературе.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ, или ПОЧЕМУ КРИЧИТ КАКАДУ
Самогонку я не любил всегда. И честно в этом признавался. С одной стороны, факт сей украшает мою биографию. С другой – дает повод пытливому уму подозревать автора в детском алкоголизме.
Так вот, самогонку я не любил. И водку тоже.
Взрослые дяди моей сдержанности не разделяли. Они так и говорили меж собою:
— Пусть попробует. Надо ж когда-нибудь начинать.
Женщины обычно за меня заступались:
— Ироды, дайте же ребенку закусить!
Я набирал полную горсть печенья и затихал около радиолы. Ставил пластинки, чувствуя персональную ответственность перед взрослыми. Чередуя Поля Робсона с Клавдией Шульженко. А Тома Джонса с Муслимом Магомаевым. Получалось неплохо. Во всяком случае, взрослым нравилось. Видимо, поэтому они начинали петь про мороз. Умоляя его не морозить какого-то коня. При этом хвалились своими женами. Как мужики, так и их половины. Меня это особенно забавляло.
Я сидел в своем уголке и думал: «Взрослые дуреют оттого, что пьют самогон? Или, наоборот, пьют оттого, что дуреют?»
Более внимательное наблюдение привело к новым открытиям. Мне стало ясно, что пьяные дядьки разделяются на два вида. На тех, кто добреет от выпивки. Более того, всех целует. И на тех, кто от алкоголя сатанеет. Точнее, лезет в драку. Дядя Илюха относился к первому виду. Сосед дядя Вова – ко второму.
Еще я заметил, что праздники наступают внезапно. То ли потому, что такова природа праздников. То ли потому, что их много.
В общем, празднование Дня шофера застигло дядю Илюху врасплох. Наверное, поэтому он быстро наклюкался. И полез целоваться. Сначала к супруге дяди Вовы. Что не возбранялось. Потом к нему самому.
Надо заметить, что бывший зек дядя Вова к пьянкам-гулянкам готовился основательно. Заранее выпивал стакан самогона. Или банку браги. Видимо, для согрева. Или для разгона. Хотя разгону подвергалась собственная женушка.
Короче, очень добрый сосед повалился на почти трезвого. Да еще с лобызаниями. Трудно понять, что именно растревожило душу бывшего зека. Только взял дядя Вова вилку и со словами: «Янки, вон из Вьетнама!» вонзил ее в обширный зад любителя целоваться.
Раненый «янки» издал душераздирающий вопль. Одни свидетели утверждали, что услышали предсмертный рев молодого гиппопотама. Причем собственными ушами. Другие уверяли, что это был брачный зов влюбленного какаду. Хотя и пожилого. Меня сразу же выгнали из комнаты. Но этот звук был мне знаком. Так визжат оскопляемые кабанчики.
Потом был суд. Соседу дяде Вове дали срок. Припомнив старые грехи. И прежние судимости.
Ученый сосед Илюха обогатил свои медицинские познания. Особенно в сфере фармакологии. Хотя повязку на второй день снял. И лечился собственной мочой. Если верить непроверенным источникам.
Я смотрел на взрослых и думал: «Хорошо быть юным пионером…»
ТОТ СВЕТ, или В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ
Самые яркие впечатления детства – похоронные процессии. Эти процессии возникали неожиданно, завораживая печальной праздничностью. А может быть – нарядностью скорби. Была в них некая двойственность. Как в моем характере. Возможно, именно она магнитила мое сознание. И тело следовало за сознанием.
Бабка Горпина учила:
— Не перебегай дорогу покойнику. – Потом добавляла: — И не обгоняй… Рано тебе на тот свет.
Я врастал в толпу людей, бредущих за машиной с красным гробом. Ритуал подчинял меня, как ветер – облачко. Я думал, про какой «тот свет» говорила бабка? Если глаза умершего закрыты. Да под крышкой гроба… Тем более в земле…
Душераздирающий плач духового оркестра возвращал меня к жизни. Я бросал горсть глины в чужую могилу, марая руки и мешая взрослым.
Однажды на нашей улице появились старухи в черных платках. Вместе с холодным ветром. И подернутыми утренним инеем георгинами.
Моя мать вытерла глаза платочком и сказала:
— Горпина умерла… Перину ее уже украли…
Надо сказать, бабку Горпину на нашей улице недолюбливали. Она всюду совала свой нос. Все про всех знала. Слыла сплетницей. Короче, портила всем настроение. Даже в праздники.
Помню, в ближнем переулке гудела чья-то свадьба. Били стекла. Палили из ружья. Два раза драться выходили. В общем, все, как всегда: обычный праздник. А бабка Горпина его испортила. Потому, что вслух заявила:
— А невеста-то брюхата!
В другой раз все радовались по поводу благополучного приземления первой женщины-космонавта. Бабка Горпина не удержалась от пакости. Она так и заявила:
— Своячена моей золовки брехала, мол, вытащили ее из кабины-то всю обдристанну…
Еще случай был. Народ радовался неожиданному потеплению среди зимы. Бабка Горпина и здесь дегтю в мед подвалила:
— Кума моей свекровки брехала, мол, это атом у Семипалатнова взрывают… Или даже водород!
Технически подкованный сосед Илюха бабкиным бредням давал аргументированный отпор. Он ругался:
— Дура ты, ешкин свет, старая! Газет не читаешь!
В общем, бабку Горпину справедливо недолюбливали…
В день ее похорон было тепло. Около входа в ее землянку стояла черная крышка гроба. Конечно, думал я, где уж ей «тот свет» увидеть. Через такую толстую крышку. Да еще черную!
Рядом стоял деревянный крест. Меня это возмутило. Оказывается, уже в то время я был консерватором. Поэтому я спросил:
— Почему не памятник со звездой?
Все тот же дядя Илюха преподал мне урок практической социологии. Или даже научного коммунизма. Он сказал:
— Она же, ешкин свет, беспартийная!
Незнакомые люди колдовали над покойницей. Прикладывали бумажные ленточки с молитвами к ее лбу.
Родственники уносили посуду. Сожалея об исчезнувшем ночью бабкином керогазе и пуховой перине.
Трудолюбивый дед Свечкарь унес грабли. При этом он сокрушенно вздыхал и жаловался на Горпинину бесхозяйственность.
Хоронили бабку скромно. Без привычного мне митинга, без оркестра и почти без свидетелей. Не считая меня. Когда вернулись в осиротевшую землянку, выяснилось, что бесследно исчез бабкин запас дров. Родственники такому повороту событий даже обрадовались.
Они так и заявили:
— Значит, зима опять теплой будет…
Осень печалилась. Вместе с нею печалилось мое детство. Я смотрел вслед улетающим облакам и думал: в чем смысл жизни? В том ли, чтоб как можно дольше пробыть на этом свете? Или в том, чтобы увидеть все-таки «тот свет»?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, или НА ДОНЫШКЕ СЛАДКОГО СНА
Однажды в розовом детстве я заметил, что пространство и время могут соединяться в таинственном хороводе. Как я позже понял, во мне просыпался Эйнштейн. Но просыпался слишком рано. Я не был готов к абстрактному анализу явлений. И не умел думать. Видимо, поэтому был счастлив.
Говорят, все на свете кончается. В том числе и детство. Или отрочество. Льву Толстому виднее.
Позади осталось первое удивление жизнью. Первая вера и первое прозрение. Первая влюбленность и первое разочарование. И даже первое убийство.
Впереди мерещилось нечто тревожно-радостное. Что неподвластно детскому сознанию. Что-то на донышке сладкого сна. Или на верхушке мальчишечьих надежд.
Короче, пространство и время закручивались хороводом событий. Трагически погиб кумир детства – первый в мире космонавт Юрий Гагарин. Тихо преставилась безобидная и одинокая бабка Горпина. Получил срок душевный человек – сосед дядя Вова. Забрали в армию моего защитника – старшего брата Витька. В жаркие страны уехала с родителями моя пионерская любовь.
Этот хоровод событий уносил близких людей. С теми людьми, наверное, уходило мое детство. Детство уходило, а взрослая жизнь так и не начиналась. Более того, не обещала быть радостной.
Чтобы завершить повествование, мысль эту надо переиначить.
Я не ощущал счастья. Наверное, потому, что научился думать.

 г. Барнаул, ул. Молодежная, 5
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5