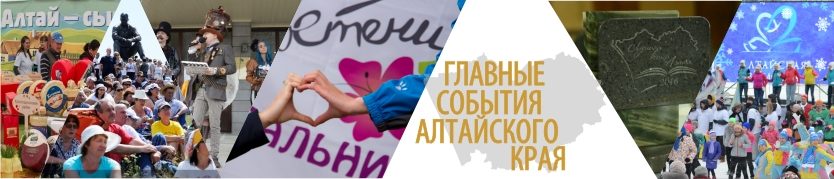БАБЬЕ ЛЕТО
| Источник: Материалы переданы Алтайской краевой общественной писательской организацией |
БАБЬЕ ЛЕТО Рассказ о смысле жизни |
Под старость глаза перемещаются
со лба на затылок.
В.О. Ключевский.
Как ни возьми, а выходило по известной всем пословице, что Семен Зарецкий – счастливый человек: построил дом, посадил дерево и не одно, вырастил сына и не одного, а троих и в придачу еще девку. По другой, менее популярной, что жил он полной жизнью, так как знал бедность, любовь и войну.
А вот тут давайте разберемся. Если говорить про бедность, то этим никого не удивишь. Бедными у нас и сегодня хоть пруд пруди. А вот с любовью – посложней.
Окрутили его с Марьей Вязигиной родители и не было промеж них вздохов и соловьев. Однако отшагали вместе уже полвека и сорганизовали четырех ребятишек.
Правда, однажды с ним приключилась отчаянная любовь к одной приезжей фельдшерице. Хотел даже разводиться. Спасибо тяте, вовремя прознал. Тятя тогда был при силе, работал в кузне и были у него кулаки, как чайники. Вот он и рассоветовал. После этого Семен отлежался и как рукой сняло, больше разводиться не затевал. Так это, грешным делом, мелкая потрава на любовной ниве была, не больше.
Если говорить про войну, то он и ее хлебнул через край, досыта. На фронт Семен уходил дважды. Первый раз со всеми, как и положено, а второй раз по необходимости. В начале войны под Москвой его крепко задело осколком, да так, что думали – уже не жилец. Долго лежал в госпитале, потом доктора его выбраковали под чистую.
Вернулся домой, ветром шатало, этот осколок ему во внутрях много навредил, туго шел на поправку. Была у нас в деревне бабка Журавлиха, царство ей небесное, она и выходила.
К весне оклемался Семен, а в сенокос уже работал на тракторе от МТС. Опытных трактористов тогда не хватало, больше работали бабы да ребятишки, а какие с них механизаторы?
Второй год войны был неурожайный, дождей выпало мало, да и то не вовремя. Район не выполнил план по хлебосдаче. Ясно, председателя райисполкома Овсянникова, двух председателей колхозов и еще несколько мужиков, что поязыкастей, объявили врагами народа и только их видели. В районе объявили месячник по сбору продовольствия для фронта. В колхозах выгребали все, что можно и нельзя, ребятишки целыми днями пропадали на поле и собирали колоски, активисты ходили по дворам и в счет плана района изымали «излишки».
В один из дней к Зарецким прибежала зареванная Зойка, соседская девчушка, и запричитала: «Ой, дядя Семен! Помогите! У нас картоху забирают, а мамка на всех кидается с топором!»
Как был в галошах на босу ногу и без рубахи, так и кинулся. Еще издали увидел подводу и во дворе услышал истошный крик: визжали от страха ребятишки, причитала Варвара. Была она растрепанная и страшная, с топором в руках металась у открытого погреба и выкрикивала:
— Только суньтесь, сволочи! Первому, кто полезет, башку отрублю, а там пусть судят! Люди! Да как же это! Мужик на войне, а у детей последнее забирают! Ведь с голоду замрем!
Видать, активистам и самим было не по себе от такой заготовки продовольствия, и никто не хотел лезть под топор.
— Ефим, черт с ней с этой картошкой. Вон сколько у нее короедов.
— А как план райкома выполнить? Забыли, куда Овсянникова упекли, и все за жалость, – выговаривал им председатель сельсовета Волошин. – Мы эту картошку не себе берем. Трое вас мужиков, а с одной бабой не сладят. Че вы на нее смотрите…
И осекся, попятился, перед ним стоял Семен.
— Шкура! – Сквозь зубы шипел и задыхался Семен. – Там кровь проливают, а ты здесь воюешь с ребятишками и бабами…
Когда дома пришел в себя, то понял, ему крышка. Тогда за одно слово люди отправлялись на Колыму, а здесь припишут срыв сбора продовольствия. Причитала мать, всхлипывала сноха Анютка, на печи молча жались друг к дружке ребятишки. Тятяхмурился и бесперечь курил.
Утром чуть свет собрал котомку, попрощался и подался прямиком в военкомат. И вовремя. Чуть погодя в ворота уже стучали верховые из НКВД. Тятя был догадливый и направил их сперва в Романово, а потом в – Катунск.
Семена спасло то, что под Сталинградом заваривалась такая каша, которую можно было расхлебать только срочной мобилизацией резервов техники и живой силы. Поэтому требовалось пополнение и пополнение личного состава. А военкомату чего мудрить? Вот он – доброволец, давай, дорогой, вперед!
Когда энкэвэдэшники сообразили справиться в родном военкомате, в далеком уральском городе Челябинске механик-водитель Зарецкий уже загнал на платформу новенький «Т-34», и эшелон загрохотал без остановок в холодные приволжские степи, где от взрывов дрожала мерзлая земля.
С фронта Семен вернулся весь в орденах и медалях, живой и невредимый, и как сел на трактор, так и пахал до самой пенсии.
Все чаще стал задумываться о прожитом. Вспоминал, анализировал, и это ему доставляло удовольствие. Сравнивал, как было раньше и что сейчас, ударился в политику, ни одной программы «Новостей» не пропускал.
Об одном жалел, на старости остались вдвоем с Марьей: все дети разлетелись по свету. И выходило так, что винить некого. Дочка Надежда вышла замуж за военного и укатила на Восток, как ее упрекнешь? Володя допоследу жил в деревне, а как колхозы стали разваливаться, подался к армейскому другу в Кемерово, в шахтеры. Уехал не от хорошей жизни. Вместо того,чтоб работать на земле, как завещали деды, полез под землю.
Из всех детей один Витька оказался каким-то непутевым. Не все складывалось гладко и у других, но все утрясалось, а этот успел уже и жениться, и развестись. Оно бы все ничего, вот только жалко внучку, такая хорошая девочка, и вот растет без отца. Пороть бы его стервеца, да силы уже не те.
А вот старшим сыном Семен гордился. Живет Николай в городе, а работает аж главным инженером какого-то крупного завода и для всех он – Николай Семенович. Во как. И вот что чудно — как он оказался в инженерах.
В роду у Зарецких основное рукомесло – крестьянский труд, земля-матушка. И откуда у него появилась тяга к железякам и к науке? Вроде и учился в деревенской школе, где учили их абы-как, а он, все одно, отчебучил.
После десятилетки заикнулся про учебу в городе, но Семен прикрикнул. У него тогда на руках уже были не могутный тятя с маманей с колхозной пенсией аж восемь рублей на каждого. Кроме Кольки еще трое, а работник в доме всего один. Но Колька оказался настырным. Спорить не стал, но поступил по-своему.
Было это летним делом, в сенокос. На покос тогда уходили с ночевьем. Хоть и трудное, но отрадное все же было дело: ладили шалаш, в соседнем озерке ставили сети и уж потом махали литовками. Вечером разводили костер, варили уху или похлебку, пили чай со смородишным листом, зверобоем и душицей. Приволье, красота!
На третий день, когда уже выпластали почти всю деляну, Семен послал Кольку к роднику за водой. Ушел Колька – и нет его, и нет. Сопроводили за ним Володьку. Тот возвращается и руками разводит:
— Тятя, а его нигде нет.
— Как так? — Кинулся Семен к шалашу, а там записка: «Тятя, прости меня, но я поехал сдавать экзамены в институт».
Здорово тогда осерчал Семен на сына, но и тот, поганец, долго гонор держал, больше года от него не было ни слуху ни духу. Мать чуть с ума не сошла. Потом объявился. И вот, поди ж ты, какой настырный: жил на одну стипендию и не пискнул, сам себя питал и содержал: то вагоны разгружал, то дежурил ночным сторожем, то подряжался в дворники.
Хоть и долго сердился Семен на него, а, нет-нет, да и защекочет где-то в душе деревенское тщеславие, как никак, а из рода Зарецких его сын первым получил высшее образование. Вышел в люди. Тогда, после смерти вождя всех времен и народов, колхозникам уже полагались паспорта, и из деревни многие кинулись в город, да не все пришлись к месту.
Когда Колька заявился на каникулы в первый раз, то привез матери платок, а ему сатиновую рубаху. Чуял за собой вину, что пошел супротив родительской воли, а подарки – это вроде как мировая. Помирились А куда денешься, парень-то не в баловство ударился, а в учение. Тут еще Марья от радости навзрыд плачет и весь платок закапала, хоть выжимай.
Теперь Колька сам дед, внук Васятка ходит во второй класс.
Семен заметил одну особенность: бабы стали мало рожать. Раньше в Покровке было три седьмых класса, два десятых. Чтобы не перепутать, делили на «А» , «Б», «В». Теперь это без надобности, всего по одному классу и то не полному. В Березовке вообще семилетка и ребятишки заканчивают десять классов в Покровке, живут в интернате. А потом еще и удивляемся, что нет у детей тяги к земле, все норовят в город. А как их удержишь, если с детских лет приучают по чужим углам скитаться.
Да, мало стало детей. Взять хотя бы Зарецких: у деда с бабкой было восемь ребятишек, у отца с матерью – шесть, у самого Семена – четверо, а у того же Кольки – только двое, у внука Игоря – всего один, Васятка. Во, брат, какая арифметика получается, это куда же мы движемся? А ну как Васятка вообще будет бездетным? Выходит, тогда роду Зарецких каюк?
Как-то приезжал Колька, разговорились с ним про это, а тот ему спокойненько все и растолковал:
— Тятя, а зачем сейчас много детей? Ну зачем? Чтобы они из родителей тянули соки? В садик устроить – проблема, выросли – жилья нет, где новым семьям жить? Государство о молодых не заботится, ну и зачем эта морока? Сейчас все живут для себя. Раньше как? Рожали, чтобы в семье иметь больше рабочих рук и прокормиться. Все жили большими семьями, а по теперешним временам зачем? Сейчас не руки кормят, а голова.
— Так скучно без детей. Ради чего тогда и жить? Как же без детей и внуков, без их возни и гомона. Не видеть, как они тянутся к тебе, цепляются слабыми ручонками за жизнь, а ты им помогаешь, и сердце кровью исходит за них.
— Чтобы не было скучно, заводят собак и кошек. Говорят, что они благодарнее некоторых детей.
— Нет, это плохо. – Не понимал Семен, как это можно прожить без детей. По христианскому обычаю после себя на Земле надо оставить след потомством, а не кошками да собаками.
В тот приезд долго и Николай, и жена его Зинаида уговаривали родителей приехать в город на его, Колькин юбилей. Марья сразу отказалась:
— Нет, сынок. Отошло мое время по гостям разъезжать, ноги совсем отказывают, а вот дед пущай съездит.
Так и порешили, поехал Семен один. Надел новый костюм, хромовые сапоги гармошкой, в каждой руке по сумке, под мышкой пять березовых веников, укутанных в марлю. Это гостинцы.
Лет двадцать не выезжал Семен из родной Покровки и теперь его все удивляло. Ну первое, это то, что весь автобус был оклеен срамными картинками. Даже на кабинке шофера был огромный плакат, а на нем голая девка отклячила задницу, титьки, как дыни, свесила, вылупилась и хоть бы капля стыда.
И что главное, все на это ноль внимания, только какие-то два парня хихикнули и один сказал другому: «Гляди, какая телка».
Да в наше бы время… эх! Как-то в деревне появилась первая девка в мини-юбке. Что было! Бабы у колодца плевались, судачили, хотели уже ее при случае отволосенить. Да парторг Гоша Звягинцев, взял ее сторону, стал защищать: «Мода такая, – говорит, – чтобы всем заголяться. Не пужайтесь, бабоньки, а привыкайте. В городах все бабы ходят голыми до курдюка».
Разобрались: а это, оказывается, новая учительница. Чему же она, сатана, научит ребятишек? И как в воду глядели, скоро все девки щеголяли голыми коленками. Но голые коленки – это еще куда ни шло: а тут! О, Господи, да куда же мы катимся?
Одно хорошо, асфальтированная дорога. Какие-то три часа и ты на месте, а тогда? Не приведи Господи! Машин было мало, все на лошадях, по два дня добирались до города. Летом еще куда ни шло, останавливайся в любом околке, выпрягай коней, пусть пасутся. Запали костер и вари похлебку. Зато зимой и в распутицу горя помыкали. Держали постоялые дворы, загодя подвозили сено и овес. Ох и мороки было.
Возили все больше хлеб в заготзерно, а назад – разные железяки и товар для сельпо. Всякое было. Как-то должны были возить мед. А фляг мало, потому мед с пасек сливали на складе в огромную бочку. А он, сами понимаете, тяжелый, да и набралось его не меньше тонны. Дорога трудная, с раскатами, на одних санях не увезти, а надо срочно. Как тут быть? Мед засахарился, не то что перелить, взять нельзя.
В председателях колхоза в то время ходил Костя Симаков, мужик горячий и бестолковый: орет, а присоветовать ничего не может. Выручил наш шорник, старенький дед Гусачек, все сбруи да хомуты чинил.
— Я, Константин Сергеич, — говорит, — техникумов не кончал, а ежелив ты мне три трудодня запишешь, я тебе все в лучшем виде изладю.
Костя горячится:
— Ой, и ты туда же, куда кобель хрен не пихал! – Потом подумал-подумал и согласился: – Ладно, дед. Если это все не насмешка, то я тебе даже пять трудодней запишу. Действуй.
Дед Гусачек велел запалить костер и выкатить из склада бочку с медом во двор, а сам – рысью в стройбригаду. Смотрим, тащит две маховые пилы, которыми бревна распускали на доски, только новые и без развода. И кладет их в огонь, а сам бочку посередке ножовкой по кругу оппилил и в этот прорез давай вставлять горячие пилы. Пила сперва идет как в масло, потом стопорится, а он уже другую, горячую, туда вкладывает. Так по переменке и развалил бочку надвое.
— Теперь, – говорит, – сажу соскребите, холстиной оберните и везите хоть на край света.
Вот тебе и дед Гусачек! Костя поперву здорово обрадовался, а как вспомнил про обещанные пять трудодней, так и перекосоротился. Но мужики пристыдили, пришлось записать Гусачку, правда, не пять, а три трудодня-палочки. Да и на том спасибо.
Приспосабливались ездить и на попутках. А если машина груженая – желающие устраивались и поверх груза, лишь бы ехать. Автобусы появились уже позже, сперва брюхатые, как рахиты-головастики, зато сейчас красавцы «пазики». Шофер зимой в одном пиджачке. Чисто, сухо. Музыка играет, как у себя дома.
Да и климат поменялся. Раньше зимы были — без валенок и тулупа и нос не кажи. Снегу столько наметало, что заносило дома по крыши и в метели от дома к дому ходили по веревке. Двери ставили так, чтобы они открывались во внутрь, иначе после метели на улицу не выберешься. Случалось в бураны заметало целые обозы. Морозы такие стояли, что деревья лопались, воробьи на лету замерзали. Бывало, плюнешь, а плевок падает ледышкой и звенит. А теперь? Всю зиму бегают в ботиночках и курточках на рыбьем меху. И снегу почти нет.
Правильно говорят старики, что с этим космосом все небо позагадили, тут и до беды недалеко.
А сколько раньше волков было! Особенно, когда мужики-охотники на фронт ушли. Так не поверите, по деревне днем ходили. Зато теперь волк – редкость. Но тут опять виноват сам человек, с этой целиной и химией извели все живое.
Вот еще что хорошо – телефон. Прямо чудо какое-то. Снял трубку и говори. Только представьте, до Владивостока тыщикилометров, а каждый месяц с Надькой говорим по телефону. Как будто рядышком сидит, даже слышно, как дышат и лепечут в трубку внучата.
С этой Надькой забавный случай вышел. Родилась она зимой. Дома. Тогда еще роддома не было и всем этим женским делом заведовала бабка Журавлиха. Проходит неделя, надо идти выписывать «метрику». Сельсовета у нас тоже не было, стало быть, шагай за пять верст в Шубенку. А снегу поднавалило по колено. А что сделаешь? Пошел Семен.
С именами тоже не все просто и понятно. Поперву этим делом ведала церковь. Как поп или дьяк сказал, такое тебе и будет имя. Больше все были Улиты, Проклы, Сазоны, Харитины, Меланьи… После революции церквей не стало и каждый выбирал новорожденному то имя, которое желал. Появилось все больше Иванов, Антонов, Оксан, Тамар. Отъявленные же партийцы называли своих потомков даже Октябринами, Пятилетками и Электрификациями. Были имена и еще похлеще, такие, как Энгельс и Маркс. В нашей же деревне в ходу все больше были Игнаты, Пахомы, Авдотьи, Маньки да Анютки.
А тут вдруг Марье приспичило назвать дочку по-другому. Пока шел, всю дорогу долдонил имя, а как дошло до регистрации — вылетело из головы. Как ни тужился, как ни морщил лоб – хоть тресни, отбило память.
Секретарем сельсовета работал Серега Бойко, отъявленный пьяница. Как кто придет на регистрацию, он рад-радешенек, это же событие, и ему перепадало по должности. Если из Совета несется песня «Хазбулат удалой!», то все знали, значит, сегодня была регистрация.
Сидит сердешный, мается, его прямо трусит с похмелья, а тут Семен с оттопыренным карманом и тоже мучается – имя дочки не может вспомнить.
— Че ты, Семка, мудруешь? – говорит Серега. — Давай назовем сами, без затей, и дело с концом. Какое тебе имя больше глянется, Манька или Анютка?
— Не-ет, – ответил Семен. – Марья меня с хаты выгонит, рожала-то она и имя ее затея. Какое-то оно… шут его знает, как бы партийное.
Серега давай ему называть всех партийных баб, даже Розу Люксембург и Клару Цеткин вспомнил, но Семен всех забраковал – не те. Пришлось идти домой, снова пять верст туда и обратно. Пришел, открыл дверь и спрашивает?
— Мать, как нашу Надьку звать? – Сам значит вспомнил Надежду Крупскую. Ну не идиот ли.
А сейчас снял трубку и названивай, куда хошь, и ноги не бей. Нет, хорошее это дело, телефон.
Автобус, плавно покачиваясь, убаюкивает. А за окошком золотая осень. Солнышко светит ласково, не жарко. Небо синее-синее, что твой ультрамарин. Над сжатыми полями стаи грачей, а березки подрумянены золотым листом. Видать, ночью уже их морозцем хватило.
Наконец приехали. Семен помнил город, когда он был кумачовый, едва ли не на каждом здании и заборе «Да здравствует родная партия!», «Экономика должна быть экономной» и прочие призывы и плакаты. А сейчас он даже растерялся. Как в кино, не то Сингапур, не то Париж.
На привокзальной площади ларьков, как на собаке блох. И все зарешеченные, закованные в железо. И названия-то все больше не по-русски. Пахнет шашлыком, гремит музыка. Народу болтается без дела – прорва. Какие-то неряшливые бабы пляшут и куражатся, тут же милиция и хоть бы что.
Семена встречал внук Игорь, парень рослый и крепкий. В плечах косая сажень, в школе физкультуру преподает, вот его и разнесло. Обличьем похож на мать, а ростом в отца. Обрадовался, обнял деда, потом взял сумки и пошли. Семен нес свои веники и все беспокойно озирался по сторонам.
— Ты, деда, что ищешь?
— Где тут у вас это… уборная?
— Туалет? Вон двери, видишь?
— Ты меня чуток подожди, я скоро управлюсь. – И подался.
— Постой, деда. Мелочь-то у тебя есть?
— Это еще зачем?
— Как зачем? Туалет-то платный.
Дожили. В сортир и то без денег не сходишь. Но как ни возмутился Семен, а если честно сказать, туалет ему понравился. Не то, что ранешный, загаженный. Тут тебе и кабинки, и салфетки, и чисто, и даже цветы. Хочешь брейся, хочешь умывайся, вода горячая и холодная. А у Семена забота – это все хорошо, но вдруг приспичит, а денег нет, что тогда?
Неожиданности и удивления были на каждом шагу. Появилось много грязных, испитых попрошаек, нищих и инвалидов. Прямо на асфальте сидели какие-то смуглые бабы с грудными детьми и горсткой тянули ладошки. Тут же сновали черноголовые, неухоженные ребятишки, рылись в мусорных урнах, искали бутылки, приставали к прохожим: «Дай дэнга!»
Ну и, конечно, как всегда, были на своем посту цыганки. Разодетые, сытые, все в золоте. Кому-кому, а уж им, паразитам, перестройка пошла только на пользу, узаконила их извечный промысел – облапошивать слабоумненьких.
Под навесом, у посадочной площадки, играл баянист. Мужик уже в годах, чисто одетый, опрятный. И так сердешный хорошо наяривает про маньчжурские сопки, что заслушаешься.
Все это напоминало Семену послевоенные годы. Тогда тоже на рынках и вокзалах было полно нищих, попрошаек и беспризорных ребятишек. Безногие инвалиды на костылях и тележках просили милостыню. По вагонам и вокзалам увечные, слепые музыканты играли и пели «жалистные» песни.
Но тогда это было понятно — последствие великой беды. А сейчас?
— Что стало с людьми? Там побираются, здесь поют, там плачут. Куда же мы пришли, может, хоть ты мне объяснишь? – спросил Семен внука.
Игорь засмеялся:
— Деда, ты просто впечатлительный и все близко принимаешь к сердцу. Не переживай. Еще Серега Есенин предупреждал: Россия долго будет жить, Плясать и плакать под забором…
Пройдет это. Вот переболеем всем, что ты видишь, и заживем нормально. Тут больше половины придуриваются, дурака валяют, обиженных из себя строят. Привыкли, чтобы за них кто-то думал и что-то делал…
До дома добирались на такси, которое в городе все называли «тачкой». Такая красивая «Волга», а у них черте что – тачка!
Как все поменялось. Казалось бы, за какие-то семьдесят лет, как помнит себя Семен, под корень извели коней и пересели на машины. Раньше, — по рассказам родителей, сам-то не успел захватить и увидеть, — Семен знал, что любой справный хозяин, помимо рабочих лошадей, имел и выездных. Они были гордостью хозяина. Предметом хвастовства перед другими. А какие были наборные уздечки, сбруи! Серебра не жалели, дуги с колокольчиками. А наездники?! Конь летит, как стрела, грива на ветру развевается, а он привстанет на стременах, пригнется к шее и только ветер свистит в ушах, э-эх! Ну птица, да и только!
Теперь помешались на машинах. И тоже друг перед дружкой: у кого престижней. А на иномарках вообще помешались. Отечественные давно не в чести. Думаешь, в шикарной «тойоте» сидит добрый молодец, а из нее вылезает мизгирь тонконогий.
Он недавно приобрел новую квартиру. Дочь Светлана, врач, вышла замуж за сокурсника и они по контракту укатили в Монголию. Игорь с женой и Васяткой жили с родителями. По теперешним временам – это редкость, но тут особый случай. Его Валентина училась в аспирантуре и по полгода жила в Москве, так что поневоле приходилось жениться.
Васятка, как кузнечик, подпрыгнул и повис на шее у Семена. Тот растроганно гладил его по худенькой спинке и бормотал:
— Ты гляди, какой вымахал, скоро отца догонишь, ах ты птичечка сладенькая, ах ты сукин кот… Давай-ка гостинцы посмотрим, что там бабка уготовила?
Из гостинцев Васятке причитались кулек карамелек из сельпо и сдобные постряпушки, румяные и сладкие, с ревенем.Васятка как-то сник и обиженно засопел. Игорь пристыдил сына.
— Ты, что же это, не рад? Как тебе не совестно? Бабушка так старалась, сама специально пекла, а ты, как неблагодарный поросенок, носом крутишь.
Семен не обиделся, несмышленыш, что с него возьмешь, а все же как-то неприятно заныло внутри. Да что же это происходит? Даже малому дитю и то не угодишь. Помнил, когда сам был такой же, как Васятка, зимой тятя часто ездил на мельницу или в бор за дровами, и как же ребятишки его ждали с нетерпением. И вот он возвращается. Всегда озябший, красный от мороза, снимал тулуп, валенки и весело подмигивал им.
— А что я вам привез? Вы только послушайте. Еду, а в Петуховом логу лисичка поджидает, сама рыженькая, хвостик пушистый, говорит: «Вот тебе хлебушко, передай его ребятишкам».
Хлеб был мерзлый, холодный, но такой вкусный и желанный, что съедали его до крошки. У мамани такой же хлеб, только теплый и мягкий, но этот во сто крат вкусней. Что ты, он же от лисички. Другой раз хлеб, а то и кусочек мороженого сальца передавал зайчик или Мишка косолапый. Про конфеты тогда и понятия не имели. А теперь, видишь, «сникерс» или «киндер-сюрприз» какой-то подавай.
Квартира у Кольки хорошая, просторная, и у Васятки есть своя отдельная комнатка, куда его и проводил Игорь, готовить уроки. Накрыл на стол, стал кормить деда с дороги. Тот только малость поел, начерно, берег аппетит на вечер к общему столу.
Пока поджидал Кольку со снохой, осваивался. Разглядывал городские диковинки. Туалет и ванна отдельные, до потолка обложены цветной плиткой и тут же рулоны туалетной бумаги, а не скомканная газета. Семен недолюбливал этот городской сервис, ему как-то было неловко пользоваться туалетом, вроде, он как гадит в квартире. В деревне до таких удобств пока еще не дожили. А, может, не все и желают, привыкнув ко всему тому, что есть. А здесь все блестит. Краны все хромированные, вода горячая и холодная.
Двухкамерный холодильник, морозилка, стиральная машина, что и стирает и сушит. Семену не в диковинку. Больше всего его поразил кухонный комбайн.
— Неужели сам моет посуду?
— Моет. Еще как моет, вот увидишь, — улыбнулся Игорь.
Однако приметил Семен и то, что все эти приобретения — импортные. Выходит, пока мы себе во всем отказывали, кажилились эту заграницу догнать и перегнать, она жила себе в удовольствие. Тихой сапой, без Карла Маркса, напридумывалавсякой хреновины и мы же теперь у них все покупаем. Выходит, за что боролись, на то и напоролись, и теперь оглобли от социализма повернули к капитализму. Стоило ли тогда семьдесят лет колготиться и щетиниться против всего мира? – невольно думалось Семену.
Но вконец доконал его Васятка, когда пошел посмотреть, как он готовит уроки. Видит, что хорошо устроился внучек: у него свой стол, полка с книгами и даже настольная лампа.
— Учись, внучек, учись. Сейчас без арихметики нельзя.
— У меня по ней ни одной тройки! – похвастался Васятка.
От нечего делать решил Семен на старости лет поумничать.
— Без троек, говоришь? А вот я проверю. Сколько будет, если сто двадцать разделить… ну, хотя бы на два?
— Ха! Это я сразу в уме разделил, будет шестьдесят. Ты мне давай посложней, с двузначными числами.
Семен оторопел и недоверчиво посмотрел на него.
— Хвастаешь? Ну, тогда ладно. Умножь-ка, скажем, двадцать шесть на… тридцать четыре.
Прошли какие-то секунды, а Васятка уже подхватился:
— Готово! Будет восемьсот восемьдесят четыре. Теперь ты сам проверяй. – И хитро поглядывает, как бесенок.
У Семена пальцы, как сучки на старой березе, еле ухватил ими ручку и на бумажке давай царапать. Пыхтел-пыхтел, потом ахнул и у него сам собой открылся рот.
— Верно! Как же ты, сукин кот, так скоро сосчитал? – Господи! Да что же это делается? Его теперь не так занимал кухонный комбайн с теплым туалетом, как эта арифметика.
Но тут появился Игорь и все прояснилось. Он ухватил Васятку за ухо и давай строжиться:
— Я тебе сколько раз говорил, чтоб не трогал у деда калькулятор? Еще хоть раз возьмешь без спросу, я тебе, свиненок, все уши пообрываю! – А Семену пояснил: – Это он со счетной машинкой хитрит, чтоб скорей уроки сделать. Учительница ругается за это, говорит, что потом головой будут плохо соображать.
Ну и дела. Вот так деточки пошли, он тебе и в уме, и на машинке, как из пулемета, выдаст. В их деревне после войны на весь колхоз за умельца остался Митрий Козин, хорошо знал всякую цифру, а кругляши на счетах кидал, как фокусник. Был он в одном лице учетчиком, бухгалтером и ревизором. Не то, что сейчас, двухэтажная контора битком набита пухлыми бабами-бухгалтерами. Уважали Митрия за науку, так тому, слава Богу, было за сорок, а тут малое дитя, хоть и с калькулятором.
Наконец, заявились с работы сын с Зинаидой. Сноха, сколько помнит ее, все такая же, только чуть пополнела. Колька же лицом больше походил на мать, а рослый и плотный, как сам Семен в молодости. На макушке, правда, обозначилась изрядная поляна, хотя деревенские реже бывают лысыми, а в городе почти все, а уж у начальства вообще голова босиком. Это, скорей, не от ума, а от асфальта и теплых туалетов, — считал Семен и даже порою ехидничал. Так вам и надо, умникам…
Сразу стало шумно и весело. Семену было приятно, что ему так обрадовались. Вообще, дети у него уважительные, его с Марьей почитали. Колька ахал и кудахтал над вениками.
— Ну, ты и выдумщик, тятя. Спасибо тебе. Какие они пушистые. А я сам все собирался их заготовить, да как-то все времени нет. Впрочем, вру, ленюсь. А париться люблю.
Зинаида распихала по холодильникам и шкафам деревенские гостинцы и все приговаривала:
— Да зачем же вы, папаша, так беспокоились? Ой, да зачем же так много, у нас же все есть.
Остаток дня и вечер прошли в веселых хлопотах и разговорах. Смотрели телевизор, Семен отметил, «Новости» и политические разговоры они не признают, сразу переключали на другое.
— Пошто, Колька, «Новости» не смотришь?
— Все они врут. Говорят одно, а делают другое. Надоели.
Но не из-за этого крепко осерчал Семен. Колька стал хвастаться и показывать ему новый японский видеомагнитофон.
— Смотри, тятя, в этой маленькой коробочке-кассете помещаются две серии фильма про индейцев. Счас мы ее ставим, теперь сюда пальчиком нажимаем. Все, готово. Можно смотреть.
Да промахнулся Колька, вместо индейцев сперва послышалось сопение, ахи-охи, аж с подвывом, потом показались крупным планом громадные голые титьки и зачастила, как швейная машина, чья-то голая задница!
Колька подхватился с дивана, досадно крякнул и закричал, глядя в шкаф:
— Вася! Это ты, паршивец, опять смотрел Чингачгука и сунул кассету не в ту коробку? Сколько раз тебе говорить, чтобы клал все по своим местам?
Пока Колька рылся и разбирался с кассетами, Семен молчал. Молчал долго, потом с укоризной стал выговаривать:
— Это что же ты, суккин сын, делаешь? Как же тебе не совестно? Ты же сам уже дедушка, а эту гадость смотришь.
— А что тут такого? – начал тот смущенно оправдываться. – Сейчас везде показывают. Любой фильм без секса не обходится.
— Постыдился бы, у тебя же дома дите малое.
— И дети все про это должны знать. Психологи говорят, что мы в половом воспитании детей в какой-то степени отстаем. В определенной мере это даже полезно, потом они меньше глупостей делают и меньше разводов. Когда мы смотрим сами, то Васю гоним в его комнату.
Не верил своим ушам Семен, не верил. «В какой-то степени… в какой-то мере!» Тьфу! Когда Колька еще был пацаном, в их классе исключили из школы Кешку Вострикова только за то, что он на уроке литературы, вместо того, чтобы вникать в образ Наташи Ростовой, втихаря показывал карты с голыми девками. А тут, черти, вон что вытворяют. Стыдно это дело назвать своим словом по-русски, так они, сволочи, культурно говорят на заграничный манер – секс! Его дед с бабкой без этого секса восемь ребятишек настрогали, да если бы еще трое не померли, то было бы одиннадцать. И понятия не имели о сексе. Выходит, что наши предки сами делали ребятишек, а эти только глядят, как это делается.
Наконец, Колька запустил своих индейцев, те заверещали, замельтешили с копьями и стрелами, и Семен до того увлекся, что про все забыл.
— Вот это другое дело, – похвалил он, – смотри и отдыхай.
Колька с Игорем переглянулись и засмеялись.
Спать его определили с Васяткой. Он долго не мог приладиться к детскому разговору, но, все-таки, разговорились.
— Деда, а что показывали по телеку, когда ты был маленький?
— Какой там, внучек, телек? Я впервые кино-то увидел, когда уже был парнем, и то в городе.
— Как же вы тогда жили без телека и кино?
— Так и жили. Сами себя развлекали: пели, плясали. Молодые девки и парни всякие постановки делали. Ничего, весело жили. Это уже после войны раз в месяц стала приезжать кинопередвижка. Зато какое кино было! «Кубанские казаки», «Свадьба с приданым», «Волга – Волга», а какие песни пели!
Ох и радости было у ребятни! Твой деда Коля был такой, как ты сейчас, носится с ребятами по деревне, как угорелый, людей сзывал. Работали тогда в колхозе до темна. Клуба не было и кино показывали в колхозном амбаре, вместо экрана – выбеленная стена. Скамейки и стулья несли из дома каждый себе. Электричества тоже еще не было и приходилось во дворе по очереди крутить ручку движка. Как только он затарахтит, все бегом в амбар. Денег тоже не у каждого, так ребятишки загодя запасались яйцами из-под кур и несли киномеханику Гоше, а он за это разрешал смотреть фильм. Садились прямо на пол, перед экраном, и до того сердешные за день убегаются, что к концу фильма поснут…
Семен вспоминал то далекое время и казалось оно ему, хоть и трудным, но таким счастливым. Много работали, были молодыми, хотелось жить. Да что там ребятишки, сам за день на тракторе так намаешься, что к концу сеанса и у него глаза слипались. А еще надо будить ребят и вести домой, тащить скамейку. Мечталось: вот бы лежать дома на кровати, а тебе кажут кино. Надоело смотреть, повернулся на другой бок и спи. Тогда это казалось фантастикой. Теперь в каждом доме, считай, телевизор и не одно кино в месяц, а до десятка на день да еще эти похотливые видики с сексом. Не надо вставать, нажал кнопку дистанционного управления и дрыхни.
На другой день была суббота. Зинаида с утра гремела на кухне кастрюлями, жарила, парила. Мужики ей помогали. Как только Васятка пришел со школы, их спровадили в баню, чтобы не путались под ногами, и Колька еще напутствовал:
— Вы, тятя, побудьте там подольше. Вы любите политику и там наговоритесь досыта. У нас про нее больше всего говорят на кухне, на сытый желудок, и еще в бане. Голые. Там такие революционеры и цицероны, что твоя Госдума!
Что мало изменилось в городе, так это баня. Нет, хорошо, что навели марафет, вот только не изменился сам дух общения и привычек. Так же хлещут водку и наливаются пивом. Правда, совсем перестали стирать бельишко. Ясно, стали лучше жить. А про политику, верно, болтали. При Сталине, хоть и голые, а побаивались, зато сейчас мелют, что попало, и кроют матюжищамидаже президента и ничего…
Ближе к вечеру стали прибывать гости, все с цветами, со свертками. Разодетые гологрудые бабы целовали Кольку-юбиляра, галдели, смеялись и мололи всякую чушь.
— Тятя, – глазами указал Колька на мужика с бородкой, – это мой шеф, ну, начальник по–вашему.
— Че ж он, если начальник, в таких застиранных штанах?
— Это не штаны, а джинсы. И не застиранные они. Мода такая. Это в твое время у начальника – френч, галифе, картуз и под мышкой портфель. Сейчас начальника от рабочего не отличишь. Пойдем, я тебя с ним познакомлю.
Гости прибывали и прибывали, стало шумно. Игорь включил музыку. Наконец, стали садиться за столы, загремели стульями. А уж на столах! Бог ты мой! Гусь в яблоках, куриные ножки с чесноком, по-ихнему цыплята-табака, ветчина, буженина, икра, рыба всех цветов: красная и белая и, понятно, копченая. Фрукты все только заморские: загогулины-бананы, мандарины, апельсины, две огромные кедровые шишки с пучком листьев на макушке — ананасы. Не хватало разве что, рябчиков. А уж вина, водки и коньяка – батареи. Этикетки красивые, заграничные. Одна бутылка – на отличку: здоровая, квадратная, с плечиками и печатью на шнурке. Это виски.
Что больно задело Семена, так это то, что из всех его деревенских продуктов сиротливо стояли две малюсенькие тарелочки с груздочками и все. Вроде, их соленые помидоры, огурцы и копченое сало – не родня этому застолью. Заелись, знать. И впрямь, хорошо жил Колька, справно, а все эти ананасы и виски с печатями на шнурке, скорей, для форсу. Вот же сукин сын, и он туда же метит, в «новые русские». Ничего не сказал Семен, промолчал. Небось, забыл ты, Колька, как после войны мальцом ел жмых-макуху, а теперь и копченое сало от родителей ему не по ноздре. Да, ладно, чего уж там. Хорошо, хоть самим не брезгуют, за стол сажают, а то могли бы и на кухню спровадить.
Зря он сердился, ну, не то время, чтобы о жмыхе думать, да и сын к нему по-хорошему, со всей душой. Сам он, как юбиляр, сел во главе стола, слева примостилась Зинаида, а по правую руку усадили Семена. И даже первое слово было его. Когда наступила торжественная минута, подхалимы-подлокотники, как и положено, заегозились: «Сергей Васильевич, просим вас, пожалуйста, Сергей Васильевич!»
Сергей Васильевич оказался мужик не дурак, говорит:
— Как и положено, первое слово родителю. Прошу, папаша.
Колька легонько толкнул его локтем и тихо сказал:
— Давай, тятя. Пожелай мне что-нибудь хорошее.
Поднялся Семен, ему легче было смену отпахать на тракторе, чем речь говорить на людях. Но тут особый случай. Надо. Стал говорить, может, и не складно, но сердцем, и все это почувствовали, притихли. Вспомнил Семен трудное послевоенное время, тот далекий шалаш на покосе, родительскую тревогу и радость за сына, что первым из рода Зарецких вышел в люди. И выходило это у него не как бахвальство, вот, мол, какие мы, деревенские, а было светлое и чистое чувство гордости за сына.
Зазвенели бокалы. Как поезд потихоньку трогается и набирает ход, все громче и громче громыхают колеса, а уж потом загудит во всю мочь, так и гулянка. Начали степенно, потом оживились, загремела музыка, зазвенела посуда, шум, гвалт.
Когда уже освоились, Колька предложил гостям:
— Давайте попробуем знаменитое виски. Это мне наши смежники прислали, – дал знак Игорю, – наливай всем помаленьку.
Игорек сломал печать, раскатал алюминиевую окантовку на горлышке бутылки и вынул, как из графина, притертую пробку. Фу-ты ну-ты, заграница!
Семен за свою жизнь перепробовал все, что пьют, от браги с денатуратом до трофейного шнапса, а пить виски не приходилось. Выпил, поплямкал губами, покрутил башкой и подался на кухню. Приносит бутылку и говорит:
— Гости дорогие. Я, конечно, извиняюсь, но, ради шутки, прошу вас, уважьте старика, попробуйте по капельке деревенского виски. Игорек, разливай.
Колька кинулся утихомиривать отца:
— Тятя, перестань, ну, брось, прошу тебя…
А гости, наоборот, засмеялись, зашумели и первым начальник, Сергей Васильевич, потянулся с посудиной. Попробовали и уставились друг на друга.
— Что такое? Ну не отличить! Честное слово!
— То-то! Уж что, а выпивку лучше русских, хрен кто делает. Этот виски мы с бабкой делаем без этих выкрутасов, с печатями и стеклянными пробками. Просто первак осаживаем марганцовкой, два раза перегоняем и год настаиваем на кедровых орехах.
Ободренный вниманием, Семен захвастал, как маленький:
— Вы еще наши грибочки не пробовали, это вам не ананас, что по вкусу– та же капустная кочерыжка. А вот наши помидорчики, по особому старинному, деревенскому рецепту…
Гости весело, по-доброму смотрели на захмелевшего папашу.
А Семену попала вожжа под хвост и он раздухарился: заохотило ему показать свою удаль деревенскую.
— Колька! А ну-ка, тащи гармошку!
— Та что ты, тятя! Какая гармошка? Сейчас под нее уже никто и не пляшет. Ушло то время – под гармошку веселиться.
— Тогда давайте петь хором русские песни, э-эх!
— Тятя, сейчас не поют хором, эти ваши «Если Волыга ды разальеты-си!» Сейчас в моде такое, что и слов не запомнишь, певцы, как степные акыны, каждый поет свое. Какой тут хор?
Хотел Семен затянуть деревенскую песню, думал, подхватят:
Соловей кукушку уговарива-ал
Полетим, кукушка, в темный лес гуля-ять.
Ноль внимания. Магнитофон – на полную катушку и запрыгали, как черти на Лысой горе.
И гуляют-то не по-людски. Бабы манерничают, да и у мужиков уже нет той удали. Вот раньше в деревне гуляли, так гуляли. Правда, и работали от зари до зари, но уж если дошло до застолья, гудит вся деревня. Родни у всех много, компании большущие, вот и гуляли по нескольку дней, кочуя из одного дома в другой. И словно по накатанной колее: угощались, пели, плясали, дрались, мирились и таращились по домам. Обычно начиналось с того, что степенно, с тостами, с пожеланиями, потчевали друг друга, потом принимались петь. И пели, надо сказать, все, даже мужики. Песни все незатейливые, протяжные, но мелодичные и с глубоким смыслом. Про Ермака, про Стеньку Разина, про бродягу, что «золото роет в горах». У Семена была своя любимая, и он всегда просил ее спеть.
Обычно сильный голос запевал скороговоркой:
Вот умру я, умру я…
И все дружно подхватывали:
Похоронят меня,
И родные не узнают,
Где могилка моя.
Как же хорошо пели! И вроде консерваторий не кончали, а как умело делились на голоса и подголоски, как высоко, с подвойками и завитушками, тянули концовку. И ведь кто-то эту песню сложил, видать, бедняга на своем веку хлебнул горюшка.
У Семена начинало щекотать в носу, подступало к горлу и слезы сами собой катились по щекам. Ему всегда в это время вспоминался Сталинград и тот кромешный ад на земле; сотни тысяч не оплаканных солдатских могил. А родным придет клочок серой бумаги и казенное: «…ваш сын… брат… муж… пал смертью храбрых…» Где он лежит и в какой земле? Кто придет поплакать над его могилкой? Разве что по весне соловей пропоет-просвищет над безымянным холмиком, вот и все, что от тебя, солдат, осталось на этом свете. Ну, как тут сердцу не разрываться от человеческого горя…
Обычно после таких песен все на время замолкали, как бы отходили от пережитого. Песня – это великое дело и жалко, что сейчас их перестают петь. А ведь это же наше, русское, что тоже объединяло…
Были и веселые, заводные, те же «Коробейники»; и разудалые, разгульные, такие, как «Была бы только ночка, да ночка потемней!» Э-эх! После этого так и хотелось хватить кулаком по столу.
Не обходилась гулянка и без частушки с переплясом под гармошку. На посиделках пели их скромно, хоть и с подковыркой:
У моей у лапочки
Губы, словно тапочки.
Только носит их, холера,
Сорок пятого размера!
А уж в пьяном угаре хотелось разгуляться, там все дозволялось. Дробно стучат каблуки, от желающих нет отбоя. Частушка потому и называется частушкой, что наперебой частят друг перед другом:
Ты лежишь ко мне спиной,
А я к тебе грудию.
Повернися, дорогой,
Доставай орудию.
Другая тут же перебивает, да так деловито, даже руками размахивает, будто что-то доказывает. И каблучками только тра-та-та! Были частушки с перчиком и покруче. Ничего, ржут.
В каждой компании найдется ухарь и найдется предлог. Слово за слово – хлесь друг друга по роже и загудело! Бывало, хватались и за колья. Как правило, все заканчивалось миром, хотя поначалу заполошно визжали бабы, кто потрезвей кидался разнимать, нередко, получив оплеуху, сам сатанел и кидался в потасовку. Дрались не долго. Уставали, все же пьяные.
Приводили себя в порядок, умывались, меняли разодранные рубахи. Драка считалась чем-то вроде развлечения, потому как телевизоров не было, а вот он готовый боевик и его смотреть сбегалась вся деревня. Ребятишки, как угорелые, носились из конца в конец и орали: «Идите скорее! У Жердевых дерутся!»
Народ валил, надо же посмотреть. В прошлый раз, когда мы дрались, эти Жердевы прибегали. Теперь мы посмотрим, как у них причесывают гостей.
После драки как бы трезвели, удивлялись: «Вот те раз! И как это нас угораздило? Игнат Матвеич, ты уж прости, я тебя не слишком зашиб?» «Та ты что, Митрич! Я тоже хорош. Давай выпьем?» «Наливай!»
Мирились. Приходило второе дыхание. Со свежими силами наваливались на угощение. Ели, пили, потом начинали петь, плясать. Драка как бы снимала пьяную одурь, взбадривала и хотелось жить.
Уже потемну бабы растаскивали мужиков по домам и тут главное было, чтобы их не перепутать, бабы-то всякие бывают.
От воспоминаний Семен загрустил и раскис. Колька, радостный, возбужденный, подошел и обнял за плечи отца.
— Ну, как тебе, тятя, глянется? Что-то ты помрачнел.
— Все хорошо, сынок. Только одно жалко, мать не поехала.
Тут Колька что-то вспомнил, подхватился и захлопал в ладоши. Когда гости утихомирились, он и говорит:
— Минуточку! Спасибо всем за поздравления, а вот сейчас будет самое дорогое, послушаем, – и Игорю – давай!
Игорь кассету в видик запихнул и у Семена чуть крыша не поехала. Вот она, его Марья Михеевна, нарисовалась в телевизоре. Сама сидит супротив их дома на скамеечке в платочке и новой кофте и так это тихо, ласково говорит:
— Ну, что тебе, сынок пожелать? Дай тебе Бог здоровья и счастья, твоим деткам не хворать, почитать родителей, как вы нас с отцом. Ты уж, Коля, на работе старайся с людьми ладить, – и давай буровить, да так все к месту и ладно, что Семен удивился, во дает, родная! Только вдруг родная как ляпнет: – Зина, доченька, вы уж с Игорьком приглядите за дедом, а то он еще подопьет и затеет плясать под гармошку и петь про соловья с кукушкой. Еще осрамит Колю перед гостями.
Гости засмеялись, захлопали и загалдели, а Семен досадно крякнул и от стыда подался в комнату к Васятке.
Он, конечно же, догадался, что это все Колька записал в прошлый приезд на кассету и тайком, чтоб его удивить. Удивил, поганец. И эта, старая мочалка, туда же: орет и срамит на всю ивановскую: «Глядите за ним, он напьется, как свинья!» Ах ты, кошелка старая. В телевизор уже полезла, в эфир. Приеду, я тебе покажу, кончилось твое эфирное время!
Обидно стало Семену, а из-за чего? А ни из-за чего. Вишь, горожанам русские песни не нравятся, плясать под гармошку стесняются, под нее им стыдно, а сами-то что вытворяют. Им только грохот и нужен, бум-бум-бум, а сами-то разучились играть. Да и что это за танцы? Повиснут друг на дружке и стоят млеют, а то примутся скакать и дергаться, как пилепсики.
В наше время гармошка еще не в каждой деревне была. Это уже потом гармошки и патефоны появились, а так все табунились на топтогоне и плясали под балалайку.
Стал вспоминать Семен себя, Марью, знакомых парней и девок и не теперешних, старых и согнутых временем, а молодых, веселых и ему полегчало. Эх, вернуться бы в то время, да нельзя, остается только вспоминать. Вот хотя бы взять Пашу Скворцова, вот играл на балалайке, она в руках у него звенела и выговаривала. Играл на заказ любые волны, хоть дунайские, хоть амурские. Тогда в моде были краковяк, полька, подиспань, кадриль, но больше всего любили и плясали «барыню» – ее еще шутейно называли «жопотряс». Хех ты, придумают же.
А теперь – на уме только деньги, уже и не замечают, что весь разговор вертится вокруг денег: кто сколько получает, на сколько «БМВ» дороже «тойоты», куда выгоднее вложить деньги?
Раньше подопьют мужики, друг дружку за грудки теребят и по русской традиции выясняют: «Ты меня уважаешь?» Почему-то пьяному русскому человеку требуется одно, чтоб его уважали. Почему? Может, потому, что трезвого его вот уже больше семидесяти лет в грош не ставили и только до пьяного доходило, что это обидно.
На другой день Семен с утра поправился стопочкой и засобирался домой. Колька хотел его увезти на машине, но с Игорьком были с похмелья, потому собрался вызвать своего шофера с «Волгой». Семен отказался наотрез:
— Да что ты, сынок, выдумываешь? На автобусе хорошо доеду, зачем человека в выходной день беспокоить.
На вокзал поехали одни мужики. Зинаида осталась дома, ей работы хватит с уборкой после этого юбилея. Вокзал как всегда жил своей суматошной жизнью. Отыскали свободное место, расположились. Пока Игорь с Васяткой покупали билет, у Семена с Колькой произошел серьезный разговор.
— А ты ведь вчера, тятя, крепко осерчал, – подначил Колька, – на что обиделся? Гармошки не было?
Семен конфузливо кашлянул.
— Слабый я стал, сынок. Чуть выпью и меня понесло. Тут еще мать под руку каркнула с телевизора… Хох ты. Как она меня, сатана, ловко поддела. – Семен оживился, хлопнул сына по плечу. – Все хорошо, сынок. И друзья твои уважительные, даже нашу самогонку попробовали. В общем, все путем.
— Ну и ладно. Тут в сумках тебе зайчик с зайчатами гостинцы собрал. Еда всякая, есть кое-что и похмелиться. Лисичка наложила всяких тряпок, тебе и мамане, там разберетесь. Вот тебе еще денежки, – Семен замахал руками, но Колька его остановил, – ты не махай. Я знаю, вы с пенсии еще и Надьке помогаете, так что, бери. И, ради Бога, не копите вы эти деньги, тратьте. Возьмите угля, дров, и не вздумай еще сам их колоть. Найми, не экономь. И еще, – тут Колька как-то засуетился, засмущался, – ты вот что… это, про деньги Зинаиде не говори.
Ох уж эти деньги. Хоть и досадовал Семен, что они только на уме, а куда без них? У той же Надьки семья – пять человек, а добытчик один Костя. Это раньше военные жили, не тужили, а сейчас он хоть и подполковник, да что толку с его звезд? Зарплату и довольствие по полгода не видят, ну, как тут не помочь? А, вишь, Колька-то прознал и как осуждает. Э-х, милый, посмотрим, как ты своей Светланке будешь помогать или нет?
— Слышь, тять, – прервал молчание Колька, – а может, все-таки, переедете в город? Если нам не хотите мешать, купим вам отдельную квартиру, сейчас с этим просто. Столько детей, а вы там одни, как неприкаянные.
— Пустой разговор, сынок. Сто раз про это говорено. Ты сам-то замечал, что, когда въезжаешь в твой вонючий город, то встречает тебя городская свалка. А над ней – тучи ворон и орут: «Ка-ар, ка-ар!» Нет уж, сынок. Я лучше буду жить в деревне со своими соловьями. Там наши вековые корни. Тятя с маманей схоронены, дед с бабкой и нам там свой век доживать. Если уж будет невмоготу или кого первого скрутит, тогда уж… – Семен немножко помолчал и тихо докончил: – Ты, сынок, старший, а потому тебе мой наказ: если что, сделай все по совести. Главное, схороните нас рядом, в родной земле, где не вороний грай, а соловушки поют. Подле наших стариков.
Колька приобнял отца и неестественно бодро зачастил:
— Ты что это такое говоришь, тятя? Что, уже помирать собрался? Да мы еще поживем!
— Нет, это я так, на всякий случай. А ты запомни.
Вернулись Игорь с Васяткой, давай балагурить, снимать на видеокамеру. До автобуса еще оставалось время и Семен снова зашел в платный туалет. И вдруг, казалось бы не к месту, среди этого несерьезного заведения, где цветы, салфетки и дезодорант, он сделал необычное открытие! А ведь платный туалет – это и есть модель рыночной экономики в самых острых ее проявлениях! Да-да! Приспичит, сам будешь решать проблемы.
Бесплатные, беспризорные подъезды, автобусные остановки, больницы, колхозы и заводы, где хозяин – обезличенный народ, это и были захламленные бесплатные туалеты социализма, до которых довели нас верные ленинцы…
Господи, додумался! Да за это бы в тридцать седьмом… Семен украдкой огляделся по сторонам, никто не подслушал его крамольных мыслей?
Уезжал Семен из города с легким сердцем, погостил и будет. Хоть верьте, хоть нет, а за эти два дня соскучился по деревне. Его тяготила и утомляла городская суета, этот суматошный ритм. А Колька еще тянет сюда. Ну, уж нет, да и зачем? Дожидаться смерти на асфальте в бетонной клетке?
Ему казалось, что даже автобус весело катил по асфальту, как добрый конь, что почуял дорогу домой. Кончился пригород и потянулись игрушечные домики дач. Ишь как оголодал город: дачи растут, как грибы. Это хорошо. Все, какое ни есть, а подспорье: свои ягоды, овощи, фрукты.
И вот ведь что интересно: раньше в Сибири не было садов. Ягода, правда, была, а чтоб яблони, сливы и думать забудь. А теперь насобачились, не то что яблоки, виноград выращивают.
И опять настроился Семен размышлять, что с годами вошло для него в привычку. Он уже не мог отключиться и спокойно сидеть. Теперь вот переваривал впечатления от того, что увидел. Город, разбуженный перестройкой, напоминал ему огромный цыганский табор: так же пляшут, обманывают друг друга и попрошайничают. Только при коммунистах о том, что якобы все было хорошо, день и ночь кричали по радио, телевизору и в газетах; теперь же наладились кричать, что все плохо.
Вроде и от социализма поворотились к капитализму, а привычки остались те же. Тот же автобусник, как брал, при социализме, деньги себе в карман с пассажиров, которых подсаживал в пути, так гребет и сейчас. И плевать ему на этот капитализм. Но главное тут другое: все видят это и никому нет дела.
Кое-где, все-таки, пахали и это его радовало. Вон натужно кряхтит и ползет мощный «Т-4», чадит трубой, как цигаркой. А вот «Кировец», издали по цвету напоминающий желтого цыпленка. Только у этого «цыпленка» девять плугов, и за смену он осилит столько, сколько вспашет конными плугами табун лошадей. Захватил Семен то время, когда пахали на лошадях и быках. Тогда в пахоту, сенокос и в жатву по нескольку недель жили на полевых станах. Народу много, весело было. Кто постарше, те уже спят, а молодежь до света гомонилась, пели и плясали под гармошку. Трудное было время, голодное, а жилось все же веселей, главное – умели радоваться. А сейчас, вроде и лучше стали жить, а все злые какие-то, завистливые.
Трактора появились позже, в тридцатых годах, американские «фордзон» и «нати». Их сменили наши «ХТЗ», потом пошли «сталинцы», а к началу освоения целины, появились «ДТ-54». Первые комбайны таскали конями. Вот мороки было! Косили жатками, свозили в скирды, а уж потом молотили комбайнами. А теперь он сам идет, сам молотит, только успевай отвозить зерно на ток.
Семен на тракториста выучился перед войной. Начинал в МТС на колесном тракторе «ХТЗ», а потом работал на всех типах тракторов и ушел на пенсию с «кировца». Только подумать: на его глазах в деревне прошла вся техническая революция!
Теперь поле обезлюдело. Тот же «Кировец» за смену вспашет дневную норму целой бригады, но даже с такой техникой работать с землей тяжело. Вон все кричали: «Землю – крестьянам!» Дали землю, работай единолично, а, нет! Поперву-томногие кинулись, да только не все пришлись ко двору – и сразу взад-пятки. Оказывается, трудно. Лучше стоять в очереди за пособием по безработице, ленивому так выгоднее.
Перевелся настоящий хозяин, настоящий землепашец. И не во всем тут виноват мужик, здесь руку приложили многие, а теперь вот гибнет село…
Все меняется не только в городе, но и в деревне. Хорошо, что можно вырвать без боли зуб, без блата и очереди купить машину. Бери, что хочешь: от стирального порошка до квартиры, были бы деньги. Да, это хорошо. А чтобы деньги были — учись, работай, крутись, и самое главное – не жди бесплатного. Те времена прошли. Все это так, только как перестроиться умом? Больше семидесяти лет отучали думать, убеждали, что деньги – зло, а все оказалось не так.
Мысли, мысли. Логично и разумно рассуждать – дело не хитрое, только вот жизнь-то идет по своим правилам.
А погода как по заказу: ни облачка, ни тучки. Тепло. Так же пламенели золотым листом березки. Непонятно, от чего было грустно. Может, от того, что были последние погожие деньки бабьего лета? Скоро зарядит ненастье, все застынет, замрет до следующей весны. Много уже весен встретил на своем веку Семен, а хотелось еще и еще, но где-то в подсознании, нет-нет, а шевельнется мыслишка — может, это мое последнее бабье лето?
Тут еще по радио песня надрывает душу:
Хочется белым березкам низкий отвесить поклон,
Чтоб заслонили дорожку, ту, что ведет под уклон…

 г. Барнаул, ул. Молодежная, 5
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5