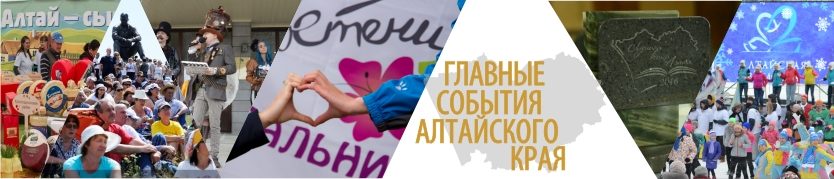Башунов В.М. ЭТЮДЫ О ПУШКИНЕ
| Источник: Материалы переданы редакцией журнала «Алтай» |
Башунов В.М. ЭТЮДЫ О ПУШКИНЕ |
Home |
СОДЕРЖАНИЕ:
Без милости, или где растет трын-трава?
Лети с приветом, вернись с ответом!
Прощайте и здравствуйте, Александр Сергеевич!
Гадание, которое сбылось и не сбылось, или еще одна импровизация на пушкинскую тему
«Велико незнание России посреди России», — не без грусти воскликнул Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями».
Велико незнание Пушкина посреди всеобщего знания Пушкина.
«Мы ленивы и нелюбопытны», как сам он выразился тогда. Мы раздерганы суетой и задавлены обстоятельствами: не до Пушкина! — добавим сейчас.
Но 200-летие со дня рождения русского гения оживило разговор о нем: зазвучали повсеместно его стихи, стали читать его прозу и перебирать подробности жизни.
Посвящен «блуждающей судьбе» и неувядаемому творчеству Александра Сергеевича и этот — по его излюбленному определению — «пестрый сор» беглых этюдов, без притязания на важность и значительность, тем более — некую первооткрывательскую глубину.
«…Пушкин — наше все».
Это выражение, схожее по краткости и всеохватности с формулой, принадлежит Аполлону Григорьеву, и оно магнетически притягательно — своей красотой и загадочностью, своим, уходящим в перспективу — как зеркало в зеркало, — смыслом, явственно ощущаемым, но не дающимся поверить себя алгеброй, быть расписанным по твердым и пронумерованным параграфам.
Многими — это естественно и неизбежно — предпринималась попытка расшифровать «единственное явление русской жизни», понять и объяснить его — и какими многими! Гоголь, Белинский, Достоевский, тот же Аполлон Григорьев, Блок, Розанов, Ильин… Еще, еще и еще! Каждый из них, сам по себе, уже явление в отечественной культуре, событие в русской жизни. Все, что ими высказано, чрезвычайно увлекательно, умно, талантливо, глубоко, справедливо… Но тайна Пушкина, ускользая, так и остается тайной: ей тесно и скучно в оболочке определений.
Может быть, ровня сказал бы о нем то и в той полноте, какую мы ищем и ждем. Только ровни не было и нет. Будет ли?
Может быть, этой безупречной расстановки параграфов вовсе не надо: присутствие тайны одухотворяет жизнь и душу. Тем более, что при всей увлекательности, полезности, богатстве чужих размышлений о нем, непосредственное общение с ним самим, с его стихами, прозой, критикой, дневниками, письмами, разговорами, приведенными в воспоминаниях современников, всегда увлекательней и богаче.
Такое ощущение, что в Пушкине нет исчерпанности. Только вчитаешься во что-нибудь, только почудится, будто приблизился к пониманию тайны, глядь, а в ней или за нею стоят две новых. И так без конца.
Отчего Моцарт из «Маленьких трагедий», не зная, что отравлен, говорит Сальери: «Прощай же!»? И отчего Сальери, зная, что отравил наверняка, то есть лишил жизни, отвечает: «До свиданья»? Ведь это не случайность — у нашего брата случайное то там, то сям вылезает, а у Пушкина подобного сора нет.
Оттого ли, что об этом, кроме Сальери, знает еще одно действующее лицо трагедии — Пушкин?
Такого чтения, вглядывания и вдумывания хватит на всю жизнь — не только отдельному человеку, но — всей России.
Вас. Вас. Розанов говорит о нем, что: «Вся его жизнь и была прогулкою в Саду Божием, где он указывал человечеству: «А вот еще что можно любить!»… «Или — вот это!..». «Но оглянитесь, разве то — хуже?!..» Никто не оспорит, что в этом его суть».
И дальше развивает тему Сада: «…он был серьезен, был вдумчив; ходя в Саду Божием, — он не издал ни одного «аха», но как бы вторично, в уме и поэтическом даре, он насаждал его, повторял дело Божиих рук… Но уже выходили не вещи, а идеи о вещах, — не цветок, но песня о цветке, однако покрывающая глубиною и красотою всю полноту его сложного строения».
Завирально, но — красиво, а разве можно не довериться красивой мысли, не пойти за нею послушно — как за красивой женщиной?
По существу речь идет о двух Садах: Божием, какой окружает нас и Пушкина, и собственном пушкинском, в который мы заходим до обидного редко. Он взращен щедрой и заботливой рукой, и разве кто воспротивится сравнению творчества Пушкина, от крупных созданий до самых мельчайших, собранных вместе, с великолепным, дивным, ухоженным Садом? (Замечу, что сам он об этом сказал бы намного проще, и что-нибудь обязательно со словом «пестрый».)
Но это и Дверь — в самые потаенные иногда, самые сокровенные закоулки человеческого духа и чувствования. Нет бездны, в какую бы не заглянул Пушкин, оставив Дверь где открытой, где приоткрытой для нас. Бесстрашно заглянул и выговорил столь же бесстрашно. «И с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю…», «…ныне Я новым для меня желанием томим: Желаю славы я, чтоб именем моим Твой слух был поражен всечасно…».
Дверь в себя — Дверь и в другого человека. К примеру, многие знают за собой похожее чувство — желание обиженного или оскорбленного самолюбия. Заглянув в пушкинскую Дверь, можно вздохнуть вольнее и утишить собственный внутренний стыд: не я один такой, даже Пушкин — гений! — страдает тем же.
Наконец, Пушкин — Путь, как для русского человека вообще, так для литературы в частности. Странно, что ни русский человек, ни русская литература этим Путем не последовали. Какие-то частные его уроки писатели усвоили — большей частью поэты: легкость стиха, неподдельную искренность, движение от усложненного письма к «неслыханной простоте» (Пастернак) и т.д. Но цельного и полного воспреемства нет. Может быть, он пророчески догадывался о двойственной судьбе своей. С одной стороны, «не зарастет народная тропа», а с другой — то, как оценивает Сальери Моцарта:
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет;
Оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он.
Утро, индустриальный пейзаж в окне, настенный календарь на кухне: 18 февраля…
Далеко от нас, за непосильным временем и немалым пространством, вот этой прошедшей ночью рыли крепостные мужики могилу в кладбищенской ограде Святогорского монастыря, а сегодняшним днем, рано поутру, еще в полутемени-полусвете, опустили в эту могилу гроб с телом Александра Сергеевича Пушкина — русского гения и, по выражению Гоголя, «может быть, единственного явления русского духа».
«…в 6 часов утра отправились мы — я и жандарм!! — опять в монастырь, — все еще рыли могилу; мы отслужили панихиду в церкви и вынесли на плечах крестьян гроб в могилу — немногие плакали. Я бросил горсть земли в могилу; выронил несколько слез и возвратился в Тригорское. Там предложили мне ехать в Михайловское, и я поехал, несмотря на желание и на убеждение жандарма не ездить, а спешить в обратный путь… Мы вошли в домик поэта, где он прожил свою ссылку и написал лучшие стихи свои. Все пусто. Дворник, жена его плакали».
А накануне, за два дня по погребения (правильней сказать: за три ночи), так же ночью, тайком гроб с телом Пушкина был вывезен из Петербурга — и погнали лошадей в сторону Пскова, не щадя погнали, так что одна по дороге пала. Гроб сопровождали только три человека: от государства — жандармский капитан, от близких — дядька Пушкина Никита и один из друзей Александр Иванович Тургенев, чья дневниковая запись процитирована только что. (Тургенев был старше Пушкина на пятнадцать лет и, кстати, это благодаря его ходатайству удалось устроить юного Александра в Царскосельский лицей; Тургенев отказался отречься от брата-декабриста Николая, за что много лет находился в опале.)
Святогорский монастырь расположен вблизи Михайловского, любимой пушкинской «обители трудов и чистых нег». Здесь, у стен монастыря, его частенько видели на ярмарках, среди «людской молви», среди нищих слепцов и народных сказителей. Здесь побывал он меньше года назад, сопровождая гроб матери. Здесь, подле матери, теперь и сам он упокоился на бессрочном ночлеге. «Вновь я посетил тот уголок земли…» Посетил — и остался, «поникнув гордой головой».
«Трагическая смерть Пушкина пробудила Петербург от апатии, — писал в «Литературных воспоминаниях» журналист и литератор И.И. Панаев. — Весь Петербург всполошился. В городе сделалось необыкновенное движение. На Мойке у Певческого моста… не было ни прохода, ни проезда. Толпы народа и экипажи с утра до ночи осаждали дом; извозчиков нанимали, просто говоря: «К Пушкину», и извозчики везли прямо туда…»
Петербург всполошился, верно, но всполошился по-разному.
Одни были действительно потрясены, действительно горевали и плакали. «Веришь ли, что я по сию пору не могу опомниться — так эта смерть поразила меня! Пройдя сквозь весь пыл наполеоновских и других войн, многим подобного рода смертям я был виновником и свидетелем, но ни одна не потрясла душу мою подобно смерти Пушкина», — выговаривался в письме Вяземскому Денис Давыдов.
Умирающий Пушкин
Рис. Нади Рушевой
Другие оставались равнодушны. «Знать наша не знает славы русской, олицетворенной в Пушкине», — писал тот же Тургенев в дневнике.
Третьи злорадствовали и потирали руки.
Четвертых одолевало обыкновенное любопытство — как при пожаре или еще каком происшествии. Данзас, друг и секундант Пушкина, вспоминал: «В передней какой-то старичок сказал с удивлением: Господи Боже мой! я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было!»
Что всполошило пятых, хорошо видно из отчета шефа жандармов А.Х. Бенкендорфа: «…имея в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное как бы народное изъявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либералов, — высшее наблюдение признало своею обязанностью мерами негласными устранить все почести, что и было исполнено».
Поэтов в России любят, «но странною любовью»: оно как-то лучше, спокойней как-то, когда и они успокоятся — на кладбищах, в портретах, неподвижных памятниках.
Остановилось время над Александром Сергеевичем, но тоска по нему, мечтание о нем, движение к нему неостановимы. Ибо в этом кудрявом и живом человеке мы потеряли не только своего гения — мы потеряли свой национальный идеал.
Далеко осталась потеря, а мы все бежим: вперед, вперед! Где он этот перед? Какой прок в нем? Не лучше ль, не верней ли — назад, к Пушкину?
Всякая несправедливость остро, иной раз даже болезненно переживается нашим сердцем. В том числе в младенческом возрасте. Правда, детские слезы или детские обиды — легкие: слезы скоро просыхают, обиды рассеиваются, вытесняются из сердца радостными впечатлениями от знакомства с миром; вовсе забываются.
Только не все и не всегда.
Знаменитое пушкинское стихотворение «Осень», которое большинство из нас, пусть не целиком, пусть пунктирно, в обрывочных строках, помнит со школьных лет, написано в тридцатичетырехлетнем возрасте. То есть взрослым человеком, к тому же в звании первого российского поэта и окруженным славою. Не касаясь даже бегло всех достоинств и смыслов этого поэтического шедевра, напомню одно признание, прозвучавшее в нем:
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет.
На руках у Надежды Осиповны
Рис. Нади Рушевой
В этом признании невольно проговаривается одна из сокровенных тайн пушкинского сердца. И не только здесь выдает она себя. Опять же каждый из нас без напряжения вспомнит, что самый поэтический, самый лелеемый автором персонаж в «Евгении Онегине» —
Татьяна Ларина.
…в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Тайна эта мерцает в пушкинском творчестве, и ведет она в его раннее детство.
Александр был вторым ребенком в семье Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных. Вся их родительская ласка, все внимание и нежность достались младшему брату Левушке. Если Ольги, как первенца, любовь отца и особенно матери еще коснулась, то будущий гениальный поэт, гордость и слава России был полностью ею обделен. Приходится говорить даже об откровенной нелюбви.
Тем более, что до шестилетнего возраста Александр не обнаруживал ничего особенного. Напротив, своей неповоротливостью, «происходившей от тучности тела», как выражается в воспоминаниях сестра Ольга Сергеевна, своей неуклюжестью в движениях, своей непонятной молчаливой замкнутостью, своим равнодушием к обыкновенным детским забавам и распространенным среди детей играм он раздражал и огорчал мать. Всегда он что-нибудь задевал, сдвигал, ронял, разбивал — это выводило из терпения пылкую натуру матери, унаследованную от арапа Петра Великого, и она, случалось, крепко наказывала юного гения, а попросту говоря — била.
Эта незаслуженная обида, эта память родительской нелюбви оставила глубокий след в ранимом сердце.
В последний год жизни Надежды Осиповны мать и сын сблизились и подружились. Она болела, и Пушкин был особенно внимателен и нежен с нею. Надежда Осиповна оценила великодушие его сердца, запоздало привязалась к нему, запоздало раскаялась в нелюбви к своему ребенку, просила ее простить.
Не дай нам Бог никому таких поздних раскаяний.
БЕЗ МИЛОСТИ, или ГДЕ РАСТЕТ ТРЫН-ТРАВА?
«Ох, лето красное», что мы? — любил бы тебя сам Александр Сергеевич, «когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи». Когда бы, пуще того, не граф Воронцов, да граф Бенкендорф, да прочая государева челядь — при звездах, при постах, при довольстве.
Два лета — 1824 и 1834 от Рождества Христова — хоть и разведены десятилетием, но сближены «особой метой» в пушкинской судьбе. Схожи его треволнения и переживания, близки мотивы, их вызвавшие. Там и там внешним поводом к обострению ситуации, к разгоревшемуся сыр-бору стало желание немедленно выйти в отставку.
Что мы значим и можем в двадцатилетнем возрасте? Что-нибудь значим и можем, не без этого. Но между нами и Пушкиным есть небольшая разница. Двадцати лет от роду он уже стал предметом отеческой заботы главного лица в государстве — императора Александра: «Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает…»
В Сибирь не сослали, но подальше от столиц отправили, лукавя при этом даже между собою, в официальной переписке. «Император уполномачивает меня дать молодому Пушкину отпуск…» — Хорошо выражается министр иностранных дел Нессельроде в сопроводительном письме генерал-лейтенанту Инзову! Ну что ж, лето — традиционное время отпусков. Что теперь, что тогда. Как желаемых, так подневольных.
Екатеринослав, Кишинев, Одесса…
Нагулявшись досыта в «отпуске» (четыре года!), Пушкин в июне 1824 года подает на высочайшее имя прошение об отставке. Их взаимная неприязнь с Воронцовым («Полу-милорд, полу-купец) дошла до точки кипения. Последней каплей послужила унизительная командировка для собирания сведений о саранче: «…в каких местах саранча возродилась, в каком количестве, какие учинены распоряжения к истреблению оной… О всем… рекомендую донести мне». Пушкин донес исчерпывающе и достойно, отвечая на вопросы графа только повторением его последних слов: «Ты сам саранчу видел?» — «Видел». — «Что ж ее, много?» — «Много»…
Но, конечно, не саранча или явное увлечение Елизаветой Воронцовой, женой графа (хотя и они тоже), стали причиной противостояния поэта и чиновника. «Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое…»
Что-то другое — и ведь справедливо! — думал о себе Александр Сергеевич и в 1834 году, в канун его милостиво пожалованный званием камер-юнкера («что довольно неприлично моим летам»). И снова, как десять лет назад, в том же месяце, в июне, с небольшой разницей в числах попросил он об отставке. Теперь последней каплей, оскорбившей и возмутившей его, стало распечатанное письмо к жене, Наталье Николаевне, прочитанное чужими людьми, в том числе Николаем I. Это-то больше всего оскорбило и возмутило — не челядь, нет, а то, что сам царь позволил себе такое.
Что Пушкину желалось и виделось в отставке?
Хоть какая-то независимость, хоть какое-то спокойствие. («На свете счастья нет, но есть покой и воля».) В себе он был уверен: оставшись без жалованья, не пропадет, заработает на жизнь творчеством.
В июле 1824 он писал Вяземскому: «За что ты меня бранишь в письмах к своей жене? за отставку, то есть за мою независимость?»
В июле 1834 писал почти то же Жуковскому: «Идти в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствие — какое тут преступление? какая неблагодарность?»
Причины веские, но сокровенный побудительный мотив все же в другом. Пушкин выговаривает его не единожды. Например, летом 1824 года — в письме к Казначееву, сотруднику администрации Воронцова:
«Я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника, мне наскучило, что в моем отечестве ко мне относятся с меньшим уважением, чем к любому юнцу англичанину, явившемуся щеголять среди нас своей тупостью и своей тарабарщиной».
(Как мало изменилось с тех пор или вовсе ничего — что в начальниках, что в отношениях к своим и заграничным!)
Та же горечь — и непокорство — в летнем письме 1834 года к жене:
«Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у господа Бога».
Оба прошения об отставке не приносят просителю желаемого. В первом случае отставка принята, но одну ссылку заменяют другой — из Одессы Пушкин отправлен в Михайловское, в глушь, в одиночество. Во втором — тоже как бы принята, но на таких условиях, что он сам вынужден от нее отказаться — и без промедления!
«Здесь меня теребят и бесят без милости».
Как-то он озорно, залихватски, с отпетой удалью признавался в письме к брату: «А мне bene (хорошо — В.Б.) там, где растет трин-трава, братцы».
Вслед за ним и всем русским поэтам хорошо, видно, там, где растет трын-трава. И пошли бы они туда, полетели без дороги, только до сих пор не находится колдуньи указать заветное место.
«Ух, кабы мне удрать на чистый воздух».
Ноябрь закрывает осень, приоткрывает зиму.
Посмотрите в окно, оглядитесь в городском дворе, в парке, в аллее — везде, где растут деревья и кустарники. Видно ли что-нибудь похожее на листопад? Нет, не видно, не напрягайтесь, не выискивайте: все давно голо. А пушкинское время отстает от нашего на тринадцать дней, значит, там сегодняшнее число наступит еще позднее, осень будет еще глубже. Отчего же он пишет в «Бесах»:
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре…
Какие листья, Александр Сергеевич, откуда? Их танцы кончились, их унесло глаголами или ветрами. И не Вы разве напишете через три года в другом стихотворении, в «Осени»:
Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с наших своих ветвей..?
В октябре — «нагие ветви» и «последние листья», а в ноябре их вдруг закружило? Что-то не сходится. Значит — неточность, оплошка, недогляд?
Листопад, конечно, возможен, если речь идет о совершенно отдельном ноябре, исключительном, выпавшем из привычного природного распорядка. Но в стихотворении нет никакого указания, даже намека на природную аномалию, как, скажем, есть в «Евгении Онегине»:
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь.
Приходится признать, что случился недогляд, как и в «Осени», где уже в начале октября «нагие ветви» и «последние листы»: Александр Сергеевич не придал значения этим пустякам, этим фактическим несовпадениям. Простим ему такую малость: ошибки и недогляды случались у него редко.
«Бесы» — первое, что написалось в Болдино осенью 1830 года.
В деревню Болдино Нижегородской губернии, родовое имение Пушкиных, отцовское поместье, Александр Сергеевич выехал из Москвы 31 августа по старому стилю. Прежде он там никогда не бывал, знал только понаслышке, по рассказам ближних, а в письмах друзьям шутил, что там «водятся курицы, петухи и медведи». Цель поездки была сугубо деловая. Уже состоялась его помолвка с Натальей Николаевной Гончаровой, и отец, Сергей Львович, выделил сыну-жениху часть родовых земель. Александру Сергеевичу надо было документально оформить вступление во владение собственностью, ну и, естественно, посмотреть своими глазами, чем ему предстоит владеть. На все-про все он предполагал потратить не больше месяца и вернуться в Москву — «хлопотать о приданом да о свадьбе».
Наступала его любимая пора. «И с каждой осенью я расцветаю вновь; Здоровью моему полезен русский холод…» Не только здоровью — как правило, в это время он чувствовал прилив творческой энергии. Ему писалось легко, много, удачливо. Сам он хорошо знал об этом. Знали и друзья — своим особенным предощущением осенней работы он делился с ними в письмах и разговорах. «Я чую осень и собираюсь засесть». (За стол, разумеется.) Это из письма Гоголю, только позднее, другим августом, в 1931 году. А на этот раз в письме другу и издателю Петру Александровичу Плетневу он сообщал: «Сейчас еду в Нижний, то есть в Лукоянов, в село Болдино… Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска… Осень подходит. Это любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настает… Бог весть буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Каченовского. Грустно, душа моя…»
С таким настроением отправился Пушкин в дорогу. Вокруг шли разговоры о холере. Он, уже имевший с ней дело на юге, отнесся к тревожным известиям спокойно. «Я поехал с равнодушием, коим был обязан пребыванию моему между азиятцами». Но холера расходилась не на шутку. Всюду был наложен строгий карантин, выставлены посты, дороги закрыты. И три месяца кряду, несмотря на все попытки, Пушкин не мог вырваться из Болдино. Первые несколько дней он действительно занимался имением и бумагами, а там притронулся к рифме, расписался и писал так, как не писал еще никогда. Воистину: не было бы счастья, да несчастье помогло.
И в прежних своих осенних ожиданиях Пушкин почти не ошибался: урожай всегда бывал щедрым. Но то, что произошло в течение трех примерно месяцев вынужденного холерного сидения, превзошло самые смелые ожидания, взволновало его самого, хотя на этот раз никаких творческих планов он особенно не строил.
«Скажу тебе (за тайну), — радостно извещал Пушкин Плетнева, вернувшись в Москву, — что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда: 2 последние главы «Онегина», 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами («Домик в Коломне». — В.Б.)… Несколько драматических сцен, или маленьких трагедий, именно: «Скупой Рыцарь», «Моцарт и Салиери», «Пир во время Чумы» и «Дон Жуан». Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все… Написал я прозою пять повестей («Повести Белкина». — В.Б.)…» Не названы еще «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о медведихе», «История села Горюхина», несколько критических статей.
Холерное это сидение известно как Болдинская осень, или — Болдинское чудо. Мировая практика не знает другого такого феноменального примера — столь огромно, многообразно, художественно совершенно содеянное русским гением в короткий срок.
Был выстрел. Покачнулись ели.
Как просто Пушкина убили —
написал когда-то, в молодые годы Леонид Ершов, целиком теперь переметнувшийся в лагерь «презренной прозы» — наш Ершов, не уральский.
Верно: просто, без церемоний, без сомнений — «хладно-кровно навел удар…»
Но как можно было убить Пушкина?
Вопрошание, конечно, детское, наивное, беспомощное — и куда обращенное? в какую инстанцию? — в белый свет, в никуда, в тьму запредельную.
Обратного хода нет, машины времени существуют только в фантастических книжках, да ведь сердцу не прикажешь. И не тем ли мучился Александр Трифонович Твардовский, хоть и по другому трагическому поводу:
…и не в том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же…
Да, никакой нашей вины нет, но это «все же» остается.
«Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев! Как мог ты это допустить?..»
Эти горячечные, как в полубреду, слова писаны не рукой нервической экзальтированной женщины, но рукой испытанного морского офицера, дослужившегося впоследствии до адмирала, бывшего лицеиста, любимца лицейского круга Федора Матюшкина. Они отправлены из Севастополя в феврале 1837 года другому лицеисту, Михаилу Яковлеву, известному нам по музыке к пушкинскому романсу «Зимний вечер».
Что мог Яковлев? Ничего не мог. Никто ничего не мог. Остановить первого среди них? Нет, не по силам.
Но как можно было убить — Пушкина?!
«Пуля, поразившая Пушкина, — писал в проникновенном некрологе Мицкевич, живший тогда во Франции (во время ссылки в Россию Мицкевич познакомился с Пушкиным, и они подружились — В.Б.), — нанесла интеллектуальной России ужасный удар… Ни одной стране не дано, чтобы в ней больше, нежели один раз, мог появиться человек, сочетающий в себе столь выдающиеся и столь разнообразные способности».
Не дано больше, нежели один раз! С ума сойти! И этот яркий праздник, этот подарок судьбы, эту улыбку вечности в единственном своем явлении Россия легко выставила под равнодушную руку какого-то отщепенца? Что мы за страна и что за люди?
А если еще вспомнить, что и после смерти мы многократно убивали Пушкина, то и вовсе…
Но оскорбление помнится, живо и остро. Кажется, поэты в России рождаются сразу с этим оскорблением в душе.
Жива и любовь к Пушкину. Иногда представляется, что это и не любовь уже, а нечто иное: как будто бьется в тебе второе сердце, имя которому — Пушкин!
Есть одно устойчивое заблуждение в представлении внешнего облика Пушкина.
Смуглый отрок бродил по аллеям —
пишет Анна Ахматова в известном триптихе «В Царском Селе» (1911 г.).
Марина Цветаева вторит своему «конвойному» (почему «конвойному» — см. цикл «Ахматовой») в чудесном, по-пушкински грациозном и летящем стихотворении «Встреча с Пушкиным» (1913 г.):
Я вспоминаю курчавого мага
Этих лирических мест.
Вижу его на дороге и в гроте…
Смуглую руку у лба…
Не опираясь на смуглую руку…
Откуда идет и почему утвердилось на бытовом уровне общее представление о курчавости и смуглоте Пушкина, догадаться нетрудно: все наслышаны об его африканском происхождении, об его дальнем предке Ганнибале, «арапе Петра Великого»; всем помнятся пушкинские изображения на разных картинках. Этого достаточно, чтобы образ сложился. Странно, что Ахматова и Цветаева поддаются ему: как раз им-то общее мнение не указ, они воспитались в культурной среде, они сами творят культуру и знают Пушкина не по одним картинкам. Но имеем, что имеем: «смуглого отрока», «смуглую руку», «курчавого мага». Пушкин подлинно маг, только курчавый ли?
Незаурядная женщина А.О. Смирнова-Россет в своих известных записках дает такой портрет Пушкина: «Незнакомец быстро прошел через залу, в гостиную, где сидели серьезные люди. Я заметила, что он отлично держится, закидывает голову назад, что у него густые, вьющиеся волосы, но не такие длинные, как у Хомякова, и он не такой смуглый, как Хомяков. Я спросила Софи Карамзину, кто это пришел сейчас? Она ответила мне: «Маленький, бледный, курчавый? Значит — Пушкин».
Пушкин и Анна Керн
Рис. Нади Рушевой
…Его волосы вьются, но они не черные и не курчавые…
В нем нет ничего негритянского… Софи Карамзина говорила мне, что Пушкин до двенадцати лет был блондином и потемнел уже позже. Его мать белокурая… Ее брат и сестры не брюнеты и не смуглые…»
Волосы не курчавые, но вьющиеся: тут граница зыбкая, легко спутать, и подмена одного другим в общем простительна. Они уже не белые, как были в детстве, но и не черные — скорее каштановые, как определяют современники. Кожа белая и никогда смуглой не была. Цветаева ошибается скорей всего просто из любви к такому цвету лица и рук — она молода, ей всего двадцать один год, ей нравится смуглость — да и кому она не нравится? Трижды в ее стихотворении упомянуты «смуглые руки». В третий раз — когда она перечисляет, что любит, в том числе:
Смуглые руки и синие реки…
Точнее угадывает Пушкина Сергей Есенин, выросший не в столичной интеллигентской среде, а в рязанской деревне:
Блондинистый, почти белесый…
Помимо портретного несходства — или расхождения с подлинником — в стихах о Пушкине — в другие области здесь не будем забираться — немало разных неточностей.
Вот хотя бы некоторые из них.
Маяковский в широко известном «Юбилейном» — неизвестных стихов трогать не станем — выстреливает в Дантеса:
Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Что «сукин сын» и «шкода» — верно. Только не «велико-светский».
Этот пришелец «на ловлю счастья и чинов» человеком света не был. Попасть туда любой ценой было его вожделенной целью. Так и не попал, хотя какая разница? Свое черное дело сделал.
Случаются неточности иного рода — не фактические, а мировоззренческие. У Бориса Корнилова Пушкину посвящен цикл стихотворений. В одном из них, в «Разговоре», поэт с восторгом сообщает Пушкину, что царям больше
«в Аничковом не поплясать» и что ему не «трудно описать», «как они до Черного до моря удирали»:
А за ними прочих вереница,
золотая рухлядь,
ерунда —
их теперь питает заграница,
вы не захотели бы туда!
Как знать, как знать… Здесь говорит наше послереволюционное отношение к царям вообще, а корректно ли навязывать его Пушкину, решать за Пушкина? И разделил ли бы Александр Сергеевич этот революционный восторг? Пушкин в молодые годы и Пушкин в зрелые лета — совсем не одно и то же. Далеко не…
Еще больше неточностей, так скажем, поэтических, но с ними всего труднее. Допустим, в стихотворении «О Пушкине» Багрицкий пишет:
…И Пушкин падает в голубоватый
Колючий снег.
«Голубоватый» — неточность (январь, пять часов пополудни) или красивость? Мне трудно поверить в нее, но мало ли? Еще труднее представить — здесь же, — как полозья «дребезжат» по снегу, когда увозят раненого Пушкина. Скользят, скрипят, постукивают, но — дребезжат? Тогда уж вся коляска, не полозья.
Но разрешающего ответа теперь не допросишься.
«Доживем до понедельника», — до четверга ли, воскресенья — в какой год когда, — и окунемся в атмосферу еще одного январского праздника — в Татьянин день. Именно в этот день в 1755 году Императрица Елизавета Петровна подписала указ и проект Московского университета. Святая Татьяна в России получила сначала прозвание университетской, а со временем стала почитаться как покровительница всего российского студенчества и профессуры, всей культуры и просвещения.
Может быть, именно Пушкин в жизни русского общества вернул очарование и прелесть этому имени. Татьяна Ларина — самое задушевное создание его гения и один из самых поэтических образов отечественной литературы. Татьяна появляется в романе не сразу, только во второй главе, но представляя свою героиню со столь обыкновенным для нас, со столь общеупотребительным именем, Пушкин делает извинительно-иронический полупоклон в сторону просвещенной публики.
Ее сестра звалась Татьяна…
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.
И что ж? оно приятно, звучно;
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей!..
В полупоклоне на такой манер, пусть насмешливом, надо все же признать вынужденность Пушкина объясниться наперед перед публикой, даже как бы оправдать употребление имени «из девичьей». Пушкина, конечно, сословными рогатками остановить невозможно — он идет за своим гением, то есть наперекор чужой воле, но оборонительные мероприятия на всякий случай предпринимает.
Следующая строфа начинается почти буквальным повтором:
Итак, она звалась Татьяной…
На этой строке стоит задержаться. Ничего особенного в ней вроде нет. Пушкин как бы закрепляет имя, как бы окончательно утверждает — и только. Отчего же эта строка запоминается буквально всем, кто «проходил» в школе «Евгения Онегина»? В романе более 5000 строк. Кто-то с трудом помнит что-то, а эту строку знают все и даже употребляют в обыденных разговорах. Что за мистика?
Строка очень искусна в звуковом исполнении и чисто по-пушкински эта искусность утаена от беглого взгляда. Ее начало и окончание созвучны, как бы даже рифмуются: похожие — приблизительные — рифмы часто встречаются в наших пословицах и поговорках, загадках. Будь вместо «Татьяной» просто «Татьяна», то и вовсе получилась бы затейливая, изысканная рифма: «итак, она» — «Татьяна».
В строке 22 буквы. Исключим два мягких знака. Остается 20 звуков, из которых почти половина — гласные! Среди гласных 5 чистых «а». Кроме того, «о» в безударной позиции отчетливо звучит как «а», и эта же «а» прячется — да в общем не особо и прячется — в букве «я» как сложном звуке. Получается сплошное звучащее «а», строка буквально пронизана «а»! И поразительно, что при такой тончайшей инструментовке она звучит совершенно естественно, даже обыденно, как обычное сообщение в обычном — не поэтическом — разговоре.
Вот как устроил Александр Сергеевич, что представление Татьяны запомнилось всем: само запало в сознание.
Надо полагать, Пушкин с особенным чувством встречал Татьянин день: как бывший лицеист и как родитель «русской душою» девушки. Кстати, в прежние времена городовые и околоточные получали указание в Татьянин день смотреть сквозь пальцы на веселые и шумные кутежи студентов.
Оно бы и нам не мешало так-то.
Нет, не проливал. И — да, проливал.
Сам Александр Сергеевич свидетельствует о себе:
Суровый славянин, я слез не проливал…
Даже бегло пролистывая его судьбу, легко в это поверить. «Дни мрачных бурь, дни горьких искушений» с молодости толпятся вокруг него, гонятся по следу, караулят впереди, «муки, измены, клевета» — «все на главу» его «обрушивается вдруг», но он остается «тверд, спокоен и угрюм». Так. Не совсем, конечно, «тверд, спокоен и угрюм»: дух мятется, кровь кипит, африканское начало выказывает себя. Но мужской крепости ему не занимать. Он легко — играючи — стоит под дуэльным пистолетом, рвется под пули горцев, без колебаний входит в холерный лазарет, а встретясь с холерой во второй раз, по дороге в Болдино, не обращает внимания на общий испуг вокруг: «я поехал с равнодушием…».
Это не напускная бравада, не нарочитое — показное — усилие над собой — это его естественное состояние: «Я возмужал среди печальных бурь…». Смерти он подлинно не боится. Редко кто из нас может похвастать столь спокойным к ней отношением, хотя и «не хочу, о други, умирать». Самообладание его в последние перед кончиной дни поразительно: страшные боли разнимают тело, а он удерживает стоны — чтоб не напугать жену…
И все же, все же… Есть другие свидетельства в его стихах, как раз прямо противоположные, когда «суровый славянин» слезы льет. И, случается, если ему верить — а как не верить Пушкину?! — в немалых количествах: «Я лил потоки слез нежданных…» Потоки — сильно, конечно, сказано, с перебором, но ясно, что если не ведрами, то и не три скупых слезинки.
По каким же поводам льется у Пушкина эта «прозрачная солоноватая жидкость», как толкуют словари? По разным, хотя и немногим. Конечно, — у Пушкина! — слезы любви:
«Я долго плакал пред тобой». Слезы творческие: «Над вымыслом слезами обольюсь», «Татьяна, милая Татьяна, С тобой теперь я слезы лью». Слезы раскаяния: «И горько жалуюсь, и горько слезы лью…»*.
Естественный человек, Пушкин естественно и реагирует. «В заколдованной области плача… позорного нет», — как сказал другой Александр — Блок. Радость, печаль, творчество — разные слезы живут в человеке.
Суровый славянин, я слез не проливал,
Но понимаю их…
Вот существенная добавка, какую я сознательно опустил в первом цитировании. Пушкин понимает слезы — и свои, и особенно чужие. Еще как понимает, если выстраивает такой единый ряд:
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.
Слезы соседствуют — на равных — с самыми дорогими для него понятиями. Да и только ли для него? Вот какую цену, какое высокое значение придает им Пушкин.
И вспоминается другой наш гений, Лермонтов, с его героем не нашего времени — Печориным, когда тот загоняет насмерть лошадь в желании увидеть любимую женщину: «И долго я лежал неподвижно и плакал горько… Мне, однако, приятно, что я могу плакать!» Тут «могу плакать» значит не все живое еще убито во мне, в моей душе. Это очень близко, прямо родственно пушкинскому отношению к слезам. «Плакать здорово», — заключает Печорин. Верно. Нынешние ученые утверждают, что слезы выносят вредный сор из организма, смягчая наши стрессовые состояния.
Так что плачьте на здоровье — духовное и телесное!
Пушкинский берег исхожен вдоль и поперек, ослежен так, что, кажется, не осталось живого места, ни единой пяди, где бы не ступала нога любопытного исследователя. Правда, пушкинистов мало кто слушает, еще меньше — кто слышит: до пушкинского томика руки не доходят — какие уж тут исследования о нем! Чужие подсказки и толкования остаются невостребованными. Жаль: «там на неведомых дорожках следы» многочасовых бдений, там в достатке умного, дельного, увлекательного.
Только слаще всего — общение с Пушкиным напрямую, без посредников, даже самых замечательных. Знание привлеченное и освоенное — штука дорогая. Но собственное узнавание, собственный добыток — того дороже. И невелик добыток — что там? так, малость: увидится вдруг, что прежде не встречалось, а чаще — встречалось, но ускальзывало, оставалось затененным, не доходило, попросту говоря, — вот и радость.
В хрестоматийном отрывке из «Евгения Онегина», в том, про «волшебницу зиму», про ее приход: «Вот север, тучи нагоняя…» — в отрывке, наизусть рассказываемом каждым из нас в школьную пору, вдруг остановит:
…рассыпалась…
Прелесть какая! Одно слово, один самый наиобыкновеннейший глагол — и целая живописная картина. Так и станет перед мысленным взором осыпание с неба первого, хлопьями и на всем пространстве, снега.
Почему раньше-то не замечалось это рассыпание зимы? Или потому, что в школе главной заботой было не сбиться в стихе, отвечая урок, произнести раздельно:
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов,
а не «рассыпалась клоками», как чаще всего случалось? Или инерция хрестоматийности мешала? Тоже вещь реальная. Или то, что сам Пушкин не сосредотачивает внимания на своих поэтических находках, «бросит мимоходом, как избыток или роскошь», что отмечал Белинский еще при жизни Пушкина, — и дальше?
Целого стихотворения стоит, отдельной разработки, ударной позиции строка — тоже снежная, из тоже снежного «Зимнего утра»:
Прозрачный лес один чернеет,
где поражает это соединение несоединимого: «прозрачный» — «чернеет», «эта лирическая дерзость», как говорил Лев Толстой о Фете.
С такой же силой, сбивая дыхание, действует прямо колдовское выражение в «Русалке»:
…Иль сердце у него косматое?
Или другое — здесь же, в «Русалке»:
Но больно мне с тобою не грустить
Одною грустью…
А разве не прелесть в «Руслане и Людмиле», в том месте, где украденная Черномором Людмила бродит одна в роскошном саду чародея и, окружена чудесами, дает себе крайние клятвенные зароки. То решается утонуть —
Однако в воды не прыгнула.
То ничего не есть и умереть, а следом:
Подумала — и стала кушать.
«Я психолог… о, вот наука!» — восклицает Мефистофель в «В сцене из Фауста». Что бес? вот Александр Сергеевич — подлинно психолог, и угаданное поведение Людмилы — только семечки в сравнении с другими проникновениями в душу человеческую.
Щедрыми пригоршнями сыплет Пушкин по сторонам свои драгоценные поэтические кристаллы, «как избыток или роскошь», не глядя, не оборачиваясь и не задерживаясь (не всегда, правда, совсем уж не оборачиваясь и не задерживаясь), мимоходом…
Свой дар как жизнь я тратил без вниманья.
Было бы кому подобрать и заглядеться!
Все помнят хрестоматийное: «Мороз и солнце, день чудесный!». А в нем — куда приглашает Пушкин прокатиться в легких санках, «скользя по утреннему снегу», предаваясь «бегу нетерпеливого коня»?
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.
То есть, иначе говоря, осмотреть живописные окрестности. «Берег милый» здесь, скорей всего — да так и есть, — географический, местный, конкретный: берег реки Тьмы вблизи села Павловское Тверской губернии, где любил бывать Пушкин (а также по соседству — в Берново, Малинниках, Старице), где был окружен радушным вниманием хозяев, где ему легко дышалось и в удовольствие работалось, где и родилось знаменитое «Зимнее утро».
Но выйдем из стихотворения в пушкинскую судьбу. В ее контексте что было, что представлялось ему «берегом милым»?
«Вышед из лицея, я тотчас почти уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался я сельской жизни, русской бане, клубнике и проч., но все это нравилось мне не долго. Я любил и доныне люблю шум и толпу».
Пушкину о ту пору только-только исполнилось восемнадцать лет. Стоит запомнить возраст: он еще аукнется.
Это устремление в разные — и противоположные — стороны, эта раздвоенная жизнь души характерны для него и дальше. Со временем Пушкин менялся («не меняются только дураки», по его замечанию), и, «упиваясь неприятно хмелем светской суеты», все больше внутренне отдалялся от «шума и толпы», все больше тянулся к сельскому уединению.
Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины…
Чаще всего он убегал в деревню, «почуя рифмы»: там они охотней и живее с ним общались. («Я заберусь в деревню и пришлю вам (издателю — В.Б.) оброк сполна».) Но дальше — горше, и уже не только и не одни рифмы, а что-то большее, совокупное, влекло его туда.
Поэт в кругу семьи
Рис. Нади Рушевой
«Жизнь эта (петербургская — В.Б.), признаться, довольно пустая. И я горю желанием так или иначе изменить ее. Признаюсь, сударыня, шум и сутолока Петербурга мне стали совершенно чужды — я с трудом переношу их. Я предпочитаю ваш чудный сад (в Тригорском — В.Б.) и берега Сороти…»
«Здесь мне очень весело, ибо я деревенскую жизнь очень люблю».
«Весело» — значит хорошо, покойно. Полноценно. И наконец чеканное определение, все расставляющие по местам, — от вымышленного лица, но, конечно же, от себя и про себя:
«Не любить деревни простительно монастырке, только что выпущенной из клетки, да 18-летнему камер-юнкеру (вот и аукнулся возраст — В.Б.) — Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости проходит через переднюю и редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своем кабинете…»
Вот «берег милый»: деревня.
Только это не весь «берег», не в полной мере, — желанная и существенная, но лишь часть его.
Другая часть — и едва ли не более весомая для Пушкина: семья.
«Евгений Онегин» создавался на протяжении восьми с лишним лет. Сам автор сильно переменился за эти годы. Если в первой главе «Я был рожден для жизни мирной» звучит еще как догадка, то в заключительной, в «Путешествии Онегина» уже как многажды выверенное, глубоко осознанное, единственно удовлетворительное обустройство жизни — снова деревня во всей ее неприхотливости, а с нею:
Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой.
Хозяйка — то есть семья.
И третья часть «берега» — вера, молитва, «соседство с Богом», о чем свидетельствуют его признания в стихах и в письмах друзьям и жене.
В последние особенно годы Библия, Евангелие становятся его постоянным чтением — не только домашним, кабинетным, но и дорожным.
Вот на чем готовился основать прочность своего бытия, свой «берег милый» Александр Сергеевич Пушкин. И не успел: не дали.
ЛЕТИ С ПРИВЕТОМ, ВЕРНИСЬ С ОТВЕТОМ!
Мы теперь почти не пишем писем. Ни друзьям, ни близким, ни дальним. Не любим и не умеем. Так только, по великой необходимости, коротко и наспех. Поздравительные открытки еще в ходу, еще хватает на них сил и времени, а все остальное общение через разлученность, когда «расстояние: версты, мили… нас рас — ставили, рас — садили», заменяет телефон. Хотя по нынешним-то временам и с телефонными разговорами особо не разбежишься: дороговато получается, накладно.
Наталья Николаевна на даче
Рис. Нади Рушевой
При Пушкине телефона не было. Прогресс технический скор, но он опоздал к Пушкину. Из-за этого опоздания мы не можем увидеть его живьем, на кинопленке, как он двигался, смеялся, как был одет; не можем услышать, как он читал стихи или просто говорил о чем-то. А современники в голос свидетельствуют, что читал он стихи великолепно. Лев Сергеевич утверждает, что его гениальный брат в живом разговоре, если его что-то заинтересовало, был выше, чем в стихах.
Но благодаря промедлившему прогрессу мы знаем удовольствие читать пушкинские письма.
Это особенное, редкостное чтение. Помню, как я был ошеломлен, окунувшись в них впервые в школьную пору. Никакого присутствия бумаги, никакой письменности, никакого придаточно-раздаточного синтаксиса! Особенно в тех, что обращены к друзьям, брату, жене. Полная раскрепощенность! Яркое ощущение непосредственного разговора, когда собеседники сидят рядышком и никто им не мешает; разговора без всяких письменных условностей, естественного, непринужденного, легко перескаки-вающего с одного на другое, уклоняющегося в разные стороны.
«Что это значит, жена? Вот уж более недели, как я не получаю от тебя писем. Где ты? что ты? в Калуге? в деревне? откликнись. Что так могло тебя занять и развлечь? какие балы? какие победы? уж не больна ли ты? Христос с тобою. Или просто хочешь меня заставить
скорее к тебе приехать. Пожалуйста, женка, брось эти военные хитрости, которые не в шутку мучат меня за тысячи верст от тебя…»
Разве так можно писать?
Оказывается — можно.
Что мы ждем, что ищем в письмах в первую очередь? Бытовых подробностей жизни и подробностей жизни души. И Пушкин ждет того же, наравне с нами, хотя мы и далеко не ровня ему.
«На днях опишу тебе (жене — В.Б.) мою жизнь у Нащокина, бал у Солдан, вечер у Вяземского — и только. Стихов твоих не читаю. Черт ли в них; и свои надоели. Пиши мне лучше о себе — о своем здоровье…»
Мы подчас в обычном — даже не деловом, даже полуприятельском разговоре церемонны и лукавы (на то и речь дадена, чтобы искривить правду или утаить себя). Пушкин в письмах прост и открыт, несмотря на постоянную слежку за собою.
«Обнимаю всех, то есть весьма немногих…». «Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом! Весело, нечего сказать…»
Но открыт доверенным лицам, откровенен не без разбору. Он помнит о шпионах, заботливо к нему приставленных, он очень хорошо знает людей, насквозь их видит. Поэтому многие письма пишутся с черновиком. Официальные или полуофициальные — это само собою, это даже нам нынешним понятно, мы тоже в таких случаях черновые наброски делаем, хотя, конечно, далекие от пушкинских. Но не только Бенкендорфу, где нельзя и малость промахнуться в слове — любая оплошка может обернуться бедой, писал он с черновым вариантом, а и знакомым, в том числе, женщинам, даже, случалось, самым близким. И дело не в одной осторожности — его письма бесцеремонно вскрывались и прочитывались разными соглядатаями, вплоть до самого царя, — дело в ответственности перед словом: чтобы смысл дошел до адресата точно, буква в букву, чтоб он не шатался, не дребезжал и не хлябал.
Представить современного человека, пишущего дружеское послание сначала начерно, а потом набело — это свыше моих сил.
У каждого поэта легко обнаружить излюбленные слова, словечки, одно ли, несколько ли, какие поэт употребляет чаще других, иногда на протяжении всей жизни, вернее, всего творчества, иногда в определенный период. Причем употребляет скорее непроизвольно, нежели сознательно, в силу какого-то особенного притяжения к слову. Ясно, что за этим кроется некий сокровенный смысл; что высказывается нечто большее, чем просто очарование и увлечение словом. Но что именно? Определенно ответить трудно, по крайней мере, мне; есть ощущение, что эти непроизвольные слова вовсе неслучайны, что они — ключевые, нутряные, слова-символы, и напрямую связаны с сердцебиением поэта, его мироощущением, но расшифровать эту связь в достаточной полноте не удается.
Так Пушкина притягивает слово «пестрый».
Оно «пестрит» в «воздушной громаде» (Ахматова) «Евгения Онегина», как бы закольцовывая пушкинский роман, появляясь сразу, уже во вступлении, в обращении к «читателю вероятному» (Твардовский):
Прими собранье пестрых глав,
прощально — и трижды кряду — показываясь в конце, в «Отрывках из путешествия Онегина»:
Фламандской школы пестрый сор…
Все блещет югом и пестреет…
Глядишь — и площадь запестрела…
Оно не обижено авторским вниманием и внутри «энциклопедии русской жизни» (Белинский), участвуя в лепке образов, в характеристике разного рода занятий, в изображении бытовых сцен и картин природы. Жизнь Евгения «однообразна и пестра»; влюбившись «в Татьяну как дитя» после второй с нею встречи, когда она была уже замужем, Онегин начинает прямо преследовать ее своей любовью, и «счастлив», если «коснется горячо ее руки, или раздвинет пред нею пестрый полк ливрей…». Но и любовь его преследует, и, оставаясь один, он все мечтает о Татьяне: «А перед ним воображенье свой пестрый мечет фараон». Когда Татьяну знакомят с Москвой, то в Собранье она видит «людьми пестреющие хоры».
С приходом весны в романе «долины сохнут и пестреют», и пастух в тени деревьев плетет «свой пестрый лапоть»…
Интересно, что, приступив к работе над «Евгением Онегиным», Пушкин сообщает в одном из писем: «Пишу пестрые строфы романтической поэмы…».
Помимо «Евгения Онегина» слово «пестрый» в разных грамматических формах частенько является в стихах, да и в других произведениях. Многое, далекое друг от друга, получает от Пушкина это определение:
«в тревоге пестрой и бесплодной…»
«не по узорной пестроте…»
«ну, что за пестрая семья!..»
«пестреют шапки…»
«чрез пеструю дорогу…»
«скачет пестрая сорока…»
Ну и проч., и проч. Почти во всех случаях этому определению можно подыскать равноценную замену, тем более с пушкинским-то даром! Какой-то обязательности, неизбежности, единственности употребления этого слова, особенно, в приложении к сороке, дороге, лаптю и т.д., нет. «Долины сохнут и пестреют» далеко отстоит от «узорной пестроты каракул». Но там и там Пушкин, очень разборчивый в словах, прибегает к одному определению, испытывая его вновь и вновь в различных поворотах.
Само слово — не Бог весть какой исключительности, пышности или важности. В словаре Даля ему отводится скромная роль, и вроде оно не всегда звучит одобрительно: «Пестрый слог, пестрая речь, — неровная, нескладная, либо разнородная, по набору выражений». «Один говорит — красно, а двое говорят — пестро».
Пушкин-то как раз свои «пестрые строфы» пишет красно — вельми красно! Не думаю, что с устоявшимся мнением он хочет поспорить, хотя частично и это возможно. Предпочтительное, избранническое отношение его к этому слову продиктовано чем-то все же иным. Но чем? Оно притягательно для него, ясно. Но почему? Какая связь здесь таится и какая тайна? Увы, кто бы надоумил, кто бы подсказал.
Князь Петр Андреевич Вяземский, поэт, один из ближайшего окружения Пушкина, рассказывает в «Автобиографии»: «Пушкина рассердил и огорчил я другим стихом из послания (к В.А. Жуковскому — В.Б.), а именно тем, в котором говорю, что язык наш рифмами беден. «Как хватило в тебе духа, — сказал он мне, — сделать такое признание?» Оскорбление русскому языку принял он за оскорбление, лично ему нанесенное».
Прекрасный пример! Как поразительно точен здесь Пушкин с его мгновенной реакцией и прямым ответным выпадом! Именно он и только он мог оскорбиться за напрасный упрек в адрес родного языка, как оскорблялся всегда за все русское, обижаемое или унижаемое со стороны.
Сам он в сердцах мог и ругнуться на отечество: «Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом! Весело, нечего сказать…» Было ему с чего этак-то развеселиться! С молодых лет опекали его дурной опекой сторожевые псы, «жадною толпой стоящие у трона», не давая воли ни в творчестве, ни в поступке. Но от других, даже самых близких, не говоря уж о чужих и дальних, обид, нанесенных отечеству, он не терпел, — ни усмешки, ни ругани, ни тем более оскорбительной напраслины даром не спускал.
«Я числюсь по России», — ответил он однажды на праздный вопрос, в каком департаменте он служит.
Это было его естественным внутренним состоянием. Немало других достойных русских людей любили Родину искренне, глубоко, пронзительно. А все же в Пушкине это чувство было особенным, отдельным от других, единственным в своем роде. Всю полноту России бережливо держал он в себе. Даже у Лермонтова, тоже гения, уже нет этой полноты сбережения:
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого смирения покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
А Пушкин не отрекается ни от чего и никакой другой истории, кроме истории своих предков в ее противоречивой реальности, иметь не хочет.
Как и откуда при его-то рассеянном, офранцуженном воспитании выросла, укрепилась, разветвилась в нем родина?
Трудно удержаться, чтоб не вспомнить здесь другое знакомое.
Наташа Ростова в «Войне и мире», после известной сцены охоты, вечером в гостях у дядюшки пускается под его гитару в русскую плясовую.
«Где, как, когда, — изумленно вопрошает Толстой, — всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, — этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de cnale давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка».
Многое в Пушкине свершалось Божьим велением, тем внутренним жаром, тем гениальным даром, что был отпущен ему. Ведомый им, он умел выбрать необходимое из пестроты жизни. Во время учебы в Лицее, оставаясь равнодушным к математике, не проявляя особого рвения к другим дисциплинам, он охотнее всего занимался в классе профессора Куницына, преподававшего нравственные и политические науки. А Куницын звал: «Любовь к славе и отечеству должна быть вашим руководителем!»
Этот зов был услышан юным Пушкиным и хорошо им усвоен.
В лицейскую же пору «гроза двенадцатого года» — война с Наполеоном наложила неизгладимый отпечаток на его чуткую душу. Через Царское Село проходили русские войска. Лицеисты рвались за ними, всё волновалось. «Не могу не вспомнить горячих слез, которые мы проливали над Бородинскою битвой и над падением Москвы… Какое взамен слез пошло у нас общее ликование, когда французы двинулись из Москвы», — свидетельствует в своих «Записках» Корф, лицейский сотоварищ Пушкина.
Наконец Арина Родионовна, знаменитая няня, любимая и воспетая им, простая русская женщина, богатый и живой кладезь народной премудрости, золотым ворохом рассыпавшая перед ним русские сказки, от которых он пришел в полный восторг, «небылицы, былины православной старины», «разумны шутки, приговорки, прибаутки» и тем «восполнившая пробелы французского воспитания».
Так возрастала родина в Пушкине, «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Эта любовь не могла не отозваться в его судьбе и творчестве — и отозвалась ярко, щедро, широко и мощно, когда выговаривая себя с задушевной тихостью, когда громко и прямо: начало «Руслана и Людмилы» («У лукоморья дуб зеленый») и «Клеветникам России» рознятся по тональности, но дух в них един.
Пушкин оставил нам много прекрасных заветов.
В том числе — быть патриотами. Научиться такой любви и такому служению отечеству — значит, многое переменить в жизни общей и своей собственной. Разумеется, в лучшую сторону. Ибо на этой любви, по утверждению Пушкина,
…основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Удивительно, особенно, единственно в Пушкине патриотическое чувство, о чем уже говорилось мною в одном из этюдов («Залог самостоянья и величия»). Столь же удивительно, особенно, единственно в нем дружеское чувство, состояние дружбы, отношение к друзьям.
Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать…
Эта мгновенная готовность следовать за друзьями хоть на пирушку, хоть в битву, хоть на край света, по одному только зову, без лишних расспросов, куда и зачем, без рассудочных взвешиваний, надо или не надо, — яркая черта его поведения. Он, рано прочитавший людей, знающий им цену, он, в двадцать три года поделившийся с младшим братом горькими признаниями, в том числе: «Я хотел бы предостеречь тебя от обольщений дружбы…», — он как бы забывает свое знание в отношениях с друзьями, а если не забывает, то преодолевает его, отодвигает в сторону, в тень, чтобы оно не лезло в глаза и не подтачивало сердце.
Только в дружеском кругу, там «где собирались Веневитинов, Киреевский, Шевырев, Рожалин, Мицкевич, Баратынский… и другие мужи», где «болталось, смеялось, вралось и говорилось умно», он чувствует себя в своей тарелке — комфортно, как выразились бы сегодня, раскрепощается, становится самим собою, раздаривая себя во всей полноте и непосредственности. Его отношение к друзьям полно щедрости, заботы, нежности, он постоянно поощряет, поддерживает их. Один из современников вспоминает: «Дружбу сотворил Бог, а литературу состряпали мы, смертные», так отвечал Пушкин на упреки приятелей за преувеличенные похвалы стихотворениям друзей своих, Дельвига и Баратынского».
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Шестнадцатилетние лицеисты Пушкин и Пущин
Рис. Нади Рушевой
Вряд ли так-то было в реальности: Пушкин как бы завышает состояние дружества, лицейского, иного ли, как бы сознательно приподымает, подтягивает к своему чувствованию, к своему отношению. Ему не было ровни не только в поэзии — не было и в дружбе. Одни из самых близких к нему, к примеру, Жуковский, Вяземский, в критические моменты для Пушкина как раз пускались взвешивать да рассуждать, кто более прав, кто менее: он или другое лицо конфликта, что доводило Пушкина порой до бешенства.
Он тоже выверял дружбу умом, не одним сердечным порывом, — но как выверял! Петр Плетнев, близко с ним общавшийся, писал:
«…Я недавно припомнил золотые слова Пушкина насчет существующих и принятых многими правил о дружеских сношениях. «Все (говорил в негодовании Пушкин) заботливо исполняют требования общежития в отношении к посторонним, т.е. к людям, которых мы не любим, а чаще и не уважаем, и это единственно потому, что они для нас ничто. С друзьями же не церемонятся, оставляют без внимания обязанности свои к ним, как к порядочным людям, хотя они для нас — все. Нет, я так не хочу действовать. Я хочу доказывать моим друзьям, что не только их люблю и верую в них, но признаю за долг и им, и себе, и посторонним показывать, что они для меня первые из порядочных людей, перед которыми я не хочу и боюсь манкировать чем бы то ни было, освещенным обыкновениями и правилами общежития».
Это, можно считать, философская подоснова чувства, это завет, который, дай Бог, дошел бы до каждого из нас.
О, где б судьба ни назначала
Мне безыменный уголок,
Где б ни был я, куда б ни мчала
Она смиренный мой челнок,
Где поздний мир мне б ни сулила,
Где б ни ждала меня могила,
Везде, везде в душе моей
Благословлю моих друзей.
Отношения поэта с окружающим миром и самим собою занимали Пушкина на протяжении всей жизни, всего творчества. Уже в лицейские годы, пятнадцати лет от роду, он прикасается к этой болевой теме, задумывается о том, что такое поэт? что стихи его? судьба его? В своем первом опубликованном стихотворении «К другу стихотворцу» он со знанием дела говорит: «не тот поэт, кто рифмы плесть умеет».
И, пророчески догадываясь, предупреждает о нелегких житейских испытаниях того, кто выбрал стезю «служенья муз»:
Их жизнь — ряд горестей, гремяща слава — сон.
Самостояние поэта, доверие к себе — одно из первых условий и оправданий его жизнедеятельности. Так. Но смирится ли с этим мир, поймет ли, примет ли? Частью — да, частью — нет. «Восторженных похвал пройдет минутный шум» — и что тогда? Тогда, «обиды не страшась, не требуя венца», надо удержаться от легких соблазнов, не изменить себе и своему дару. Тогда:
…останься тверд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум…
Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
Иди, царь, — это путь в одиночество. «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!» Конечно, все люди сталкиваются с неразделен-ностью и в этом смысле знают одиночество. Поэт одинок вдвойне, втройне. Чем ярче и сильнее дар, тем больше в нем одиночества, тем глуше и непреодолимей стена разделяющая. Поэт «всем чужой», как вырвалось в «Разговоре книгопродавца с поэтом», ему «нет отзыва», как откликнулось в «Эхо».
В том же «Разговоре» Пушкин по существу первым и впервые обращает внимание на простую вещь — на физическую, житейско-бытовую сторону существования поэта, которого все почему-то горят желанием испытать нуждой и страданием, и никто не хочет испытать достатком и счастьем. Этот стереотип — нужда и страдание как залог художнических свершений, вообще главный стимул творчества — прочен и живуч, был раньше, остается теперь. Даже великий Толстой, правда, в ином приложении, идет на поводу стереотипа — напомню знаменитое начало «Анны Карениной»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Странно, но получается, что при всей желанности состояние счастья как бы ущербно, оно однообразно и скучно, в нем нет отдельности и яркости переживаний. По крайней мере, при сравнении с несчастьем оно проигрывает.
Позвольте не согласиться — ни с вами, Лев Николаевич, при глубочайшем к вам уважении, ни с кем другим. Прежде испытайте поэта (равно: художника) достатком и счастьем, хоть единожды испытайте, а там поглядим, что получится. Вдруг нечто столь гармоничное и высокое, чего не дал и не мог дать предыдущий опыт. Если и давал, то урывками — отдельные стихи Пушкина, многие страницы «Войны и мира» Толстого написаны в состоянии если не счастья, то счастливого покоя, и они прекрасны.
Александр Сергеевич знал цену покою и бытовой независимости, хорошо знал, —
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.
Но испытать их в полной мере ему не довелось.
«Эх, проклятая штука — счастье!»
ПРОЩАЙТЕ И ЗДРАВСТВУЙТЕ, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ!
Пушкинский год окончился. Занавес упал, сцена опустела, зрители разошлись. Прощайте, Александр Сергеевич! Дожить до следующих торжественных юбилеев невозможно — дыханья не хватит. Преданный Ваш поклонник, Семен Степанович Гейченко, Сеничка, как подписывался он иногда на дарственных экземплярах своих книг, вдохновенный хранитель Михайловского заповедника, превозмогая недуги, все надеялся отпраздновать двести пушкинских лет. Не отпраздновал: не хватило дыхания.
Что ж дальше-то? Ведь окончился не только пушкинский год — окончился век, человеческий и конный, как образно выразился один замечательный умелец, простой крестьянин из тихого алтайского села, Фома Степанович Агеенко, тоже не доживший до перелома времен. Пока спорят и вычисляют, то ли действительно наступило третье тысячелетие, то ли еще наступит через какое-то время. Дело не в этом. Ясно, что чисто психологически мы подошли к итоговой черте, и что мы ее переступили. Так вот, переступая порог в это незнакомое, просторное и гулкое, поскольку необжитое, помещение нового столетия, возьмем ли мы с собой томик Пушкина? имя Пушкина?
Наивный вопрос: конечно, возьмем. Кто же скажет, что не возьмем?
Дай Бог.
В XX веке живое присутствие Пушкина еще сохраняется.
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.
Юный поэт и дама его мечты
Рис. Нади Рушевой
Это не придумано Ахматовой — это реальное ощущение. Он только что был здесь, на полянке, и примятая им трава не успела распрямиться, и дыханье не рассеялось. Длительность Пушкина велика: тридцать семь его лет были насыщены плотно, объем жизни, качество жизни, интенсивность ее далеко превышали нагрузки обычного человека, руша нормативные рамки, проливаясь через край. «Свой дар как жизнь я тратил без вниманья…» По крайней мере до нас его мысль и чувство достают легко: многое совпадает, человек почти не переменился с тех пор. Проблемы иные? Внешне — да, а чуть приглядишься — те же самые.
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
С какой остротой стоит нынче этот пушкинский вопрос, растолковывать не надо. Точно так же не надо разъяснять его наблюдение о том, что разрубить человека шашкой для чеченца даже не значит убить — это простое телодвижение, только и всего.
Сложнее с Европой. Иные теперь впали в эйфорию от ее приветливости и заботливости о нашем мироустройстве, принимая их за чистую монету. Пушкинские характеристики: «Европа по отношению к России всегда была столь же невежественна, сколь и неблагодарна», или более резкое «И ненавидите вы нас…», — забыты, а то и вовсе незнаемы. Если даже знаемы, то всерьез не принимаются. Напрасно: пушкинская прозорливость пронзительна, срок ее действия долог.
Что касается бытовых частностей жизни, то здесь тоже много живого и совпадающего. В «Путешествии Онегина» Евгений едет из Москвы в Нижний Новгород, минует Макарьев с его знаменитыми ярмарками, куда со всех концов земли везут купцы самый разнообразный товар, в том числе:
Поддельны вины европеец…
Чего-чего, а поддельных вин мы в последнее время навидались. И нахлебались. На «публичном кладбище» поэт замечает:
Ворами со столбов отвинченные урны…
У нас не только урны — оградки и памятники целиком тащут — и повсеместно, повально.
О дураках и дорогах я уже не говорю: они бессмертны. Только замечу попутно, что российские дороги Пушкин знал как никто из поэтов — ни до него, ни при нем, ни после: так много он ездил. Не случайно, пытаясь представить дальнее будущее, он в первую очередь говорит о дорогах:
…Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Можно не сомневаться, что многие из названных (цитированных) реалий перейдут в следующее столетие: технический прогресс скор, человеческая природа неподвижна.
В этом смысле Пушкин получит прописку в XXI веке. Другое дело, каким обернется его присутствие: только памятник и хрестоматия или живой собеседник? Без живого Пушкина нам нельзя: это будет не просто другая Россия — будет уже не Россия. Пушкин — центр русской жизни, идеал русской самобытности. Если не остается устремления к идеалу, остаются одни предвыборные кампании.
…Когда новогодняя ночь перешла середину, я нечаянно и ненадолго задремал и увидел знакомый летящий силуэт… Как хорошо, как радостно, что первым, кого я встретил, заступив за таинственную черту времени, был Пушкин. Здравствуйте, Александр Сергеевич! Сиротство без Вас оглушительно — не оставляйте нас. И ныне и присно и во веки веков!
ГАДАНИЕ, КОТОРОЕ СБЫЛОСЬ И НЕ СБЫЛОСЬ, или ЕЩЕ ОДНА ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ПУШКИНСКУЮ ТЕМУ
Пушкина похоронили только на девятый день по смерти.
3 февраля по старому стилю, в полночь, гроб с телом покойного был вывезен из Конюшенной церкви в Петербурге. «Дядька покойного… стал на дрогах, кои везли ящик с телом, и не покидал его до самой могилы». 6 февраля гроб опустили в могилу на кладбище Святогорского монастыря. «Кто бы сказал, что даже дворня (Тригорского — авт.), такая равнодушная по отношению к другим, плакала о нем!»
Дядька, дворня, Москва и Петербург, близкие друзья…
Вся Россия «плакала о нем».
Это была народная утрата. Простые люди, непросвещенные, «темные», часто не знающие элементарной грамоты и потому не могущие сами прочесть его чудные строки или написать его имя, сердцем расслышали свое горе и отозвались на него.
После печального акта, не имеющего обратного хода, на всю оставшуюся жизнь, пролегшую между нами, осталось, как остается теперь, при нас, как останется, Бог даст, после нас, томительное мечтание: «Если бы…»
Каких только движений не знает это «если бы»!
Дорогого стоит импровизация Федора Михайловича Достоевского:
«Если бы он дольше, может быть, явил бы бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе, чем теперь, может быть, успел бы им разъяснить всю правду стремлений наших, и они уже более понимали бы нас, чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно, как теперь еще смотрят. Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь».
Нельзя не довериться этому гаданию Достоевского. Нельзя и не запечалиться с новой силой после него. А если соединить слова Федора Михайловича со словами великого польского поэта Мицкевича, высказанными в проникновенном некрологе на смерть Пушкина, то впечатление сверх того усилится:
«Пуля, поразившая Пушкина, нанесла интеллектуальной России ужасный удар… Ни одной стране не дано, чтобы в ней больше, нежели один раз, мог появиться человек, сочетающий в себе столь выдающиеся и столь разнообразные способности».
Соединение двух высказываний искрит; искры сыплются, обжигают; из искр, как известно, возгорается пламя. Пламя не пламя, но желание поделиться вслух собственным гаданием, еще одной импровизацией на пушкинскую тему, появляется.
Прежде того присовокупим к словам Достоевского и Мицкевича одну русскую пословицу:
Без царя земля вдова.
Смысл ее многовариантен — это свойство всех наших пословиц. По крайней мере — подавляющего большинства. Выберем свой для своего гадания.
Россия всегда была женщиной безмужней — не вдовой, но и не мужней женой. Женихи были, и порой достойные, но до обручения дело не доходило. Может быть, Пушкин скорей других мог претендовать на ее руку и сердце, но — «если бы жил он дольше».
У его тезки, у Александра Блока, тоже великого русского поэта, вырвалось вдохновенное:
О Русь моя! Жена моя!..
В плане поэтическом это звучит прекрасно, высоко, завораживающе. Можно вспомнить, с каким личным чувством, как сокровенно произнес этот стих Василий Шукшин в фильме «У озера». И не отсюда ли, не из этого ли образа выросла «Сестра моя, жизнь» Бориса Пастернака?
Да, образ хорош. Но в плане реальном, по жизни, так сказать, вряд ли кто решится связать два этих имени высочайшим союзом. Сам Блок мог чувствовать Россию как жену (и, значит, чувствовал, коли так высказался), а Россия?..
Нет, не получается.
Можно выделить особо еще двух претендентов на роль мужа. Особо, потому что за них ходатайствовали — не сватали напрямую, в открытую, но безусловно замолвили дорогое словечко — два славных имени, снова два тезки, только на свой лад, как бы в зеркальном отражении: сначала Александр Сергеевич, потом Сергей Александрович.
Пушкин отличал Петра I:
Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двигнулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля.
Есенин почти буквально повторил пушкинский образ
(и, видимо, сознательно, а не по недогляду), но уже в приложении к Ленину:
Земля — корабль!
Но кто-то вдруг
За новой жизнью, новой славой
В прямую гущу бурь и вьюг
Его направил величаво.
Оба «шкипера» сегодняшними жителями «шестой части земли» воспринимаются и оцениваются противоречиво.
Мог ли Пушкин, «единственное явление русской жизни», миновать смертельный рубеж тридцать седьмого года и предстать перед нами в ином возрасте, в ином облике и в той роли, о какой идет речь?
Не мог, поскольку «история сослагательного наклонения не имеет». Однако, как сказал в известном стихотворении Твардовский, опять же Александр, «но все же, все же, все же…»
Поздней осенью 1819 года, а по другим данным — 1817-го, Пушкин с друзьями наведался к известной в Петербурге с 1810-х годов гадалке немке Кирхгоф. Популярность ее в северной столице была велика. Еще два знаменитых Александра посещали прорицательницу: в самый канун войны с Наполеоном — император Александр I, а в сентябре 1817-го — Александр Сергеевич Грибоедов.
В своих воспоминаниях Соболевский писал со слов Пушкина:
«Предсказание было о том, во-первых, что он скоро получит деньги; во-вторых, что ему будет сделано неожиданное предложение; в-третьих, что он прославится и будет кумиром соотечественников; в-четвертых, что он дважды подвергнется ссылке; наконец, что он проживет долго, если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека.., которых и должен он опасаться».
Хотя Пушкин был человеком суеверным, он, возможно, иронически отнесся бы к словам вещуньи — как, например, Грибоедов. Но первое предсказание сбылось в тот же вечер, а через несколько дней — и второе. Это сильно его смутило, и уже до конца века своего он почти неусыпно помнил об угрозе, таящейся для него в чем-то белом. Да, он смеялся вместе со всеми, когда заходила речь о гадалке, но это был внешний смех, неловкая попытка затушевать внутреннее волнение.
Далее в пушкинской судьбе сбылись все предсказания Кирхгоф.
Кроме одного.
О самом гадании вспоминают и рассуждают постоянно. Однако преимущественно о той части его, где говорится об угрозе от белого человека — Дантес был белокур. Предыдущие слова, как правило, не затрагиваются, все время остаются в тени, словно и не было их, слов о том, «что он проживет долго, если…»
То есть, возможность долгой жизни в гадании присутствует, вот что важно. «Если» — это «если», а не категорическое указание на фатальную неизбежность ранней трагедии, не окончательный и не подлежащий обжалованию приговор, вроде приговоров другого тридцать седьмого года.
Долгая жизнь все же была обещана. Но именно в этой части, самой главной для нас, самой желаемой, гадание не сбылось.
Хотя о долгой жизни судят по-разному. Шукшин говорил о Есенине, что он прожил ровно с песню. Много или мало? Вроде как в самый раз.
Примерно то же говорят теперь о Шукшине.
Бытует такое устойчивое мнение, будто хорошо даже, что наши великие таланты ушли из жизни молодыми, что свою творческую задачу выполнили и запомнились яркими, а то бы состарились, стали немощными, неприглядными, да и талант бы, глядишь, поослаб или вовсе кончился…
Приходилось мне слышать нечто похожее от людей, тоже ярко талантливых, которых я любил и люблю, которыми восхищаюсь. Только согласиться в этом с ними не могу.
«Пушкин умер в полном развитии своих сил», — сказал Достоевский. В полном развитии, а не в оскудении, не в исчерпанности. Точно так же — Лермонтов, Гоголь, Есенин, Павел Васильев, Рубцов, Шукшин… Несть числа. Сколько бы «разумного, доброго, вечного» мы еще услышали от них! отчего нам помнилось, что «все, что могли, они уже совершили»? Отчего ждала их обязательно немощная и неприглядная старость? Разве не любуемся мы портретами Крылова, Тургенева, Тютчева, Толстого в их более чем зрелом возрасте?..
Думаю, что Пушкин или Есенин в преклонные лета выглядели бы с не меньшим великолепием.
«Но Бог судил иначе».

 г. Барнаул, ул. Молодежная, 5
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5