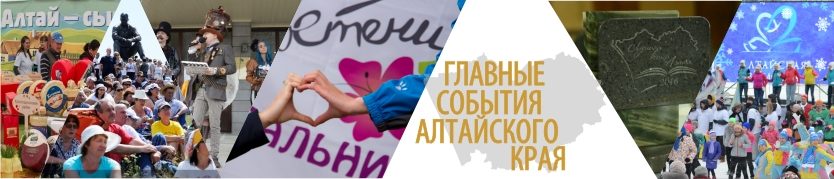Шнайдер В.А. БОЛЬ
| Источник: Материалы переданы автором |
Шнайдер В.А. БОЛЬ Рассказ |
Home |
Воскресенье. В доме престарелых оживление. С самого утра ходячие вышли на улицу, а полуходячие или ползающие, как их здесь называют, засели у растворённых окон.
Ждут. И те, и другие. Одни с верой, вторые с надеждой на чудо, а третьи вообще не ждут: некого. Но все-таки нет-нет да и поглядывают в широко распахнутую железную пасть ворот.
Прасковья Николаевна из-за парализованной левой половины тела относится к ползучим. И ждёт у окна. Из их комнаты только двое ждут – она и ходячая Зойка. Хотя та и говорит, что никого не ждёт, и что на всём белом свете у неё нет ни родных, ни друзей, чему она рада очень, но Прасковья-то догадывается, что всё это враньё. Догадывается потому, что в выходные Зойка целыми днями бродит по улице, а вечером возвращается злее обычного и чуть не всю ночь курит у окна. Хотя курить в комнатах строго-настрого запрещено. Но она курит. И попробуй, одёрни её. Так отлает, что свету белому не рада станешь.
Третья жительница комнаты – глуховатая и помешанная умом Устинья сутками может сидеть на кровати и копаться в небольшом грязном узелке. Положит его на колени, развяжет и начнёт перебирать свои «сокровища»: фантики, неизвестно чьи фотографии, проволочки, пуговицы и тому подобную всячину. Узелок этот, видимо, единственное, что её интересует и чем она дорожит в этой жизни. Бывает, встанет среди ночи, вытащит узелочек из-под подушки, ощупает его со всех сторон, как бы убеждаясь, на месте ли, и снова ляжет. Она никого не ждёт.
Прасковья Николаевна ждёт сына. «Почему же он так долго не едет-то, а? – в тысячный раз, наверное, спрашивает она себя. – Может, адрес неправильно написали и письма не дошли? – И в тысячный раз решает: — Конечно, письма не дошли! А то он, соколик мой, сразу бы прилетел, как узнал, что у нас стряслось».
А стряслось вот что. В прошлом году к ним в Комарово, на уборку прислали командированных. А они, как известно, народ разгульный. И деревня загудела. И её младший сын Шурка, закоренелый сорокалетний холостяк и большой любитель выпить, сразу затесался в их компанию. Прасковья Николаевна говорила ему: «Шурка, не пей ты с ими, не связывайся. Ить ты не знаешь, што они за люди, а гуляешь с ими». Но он только молча отмахивался. А сердце матери чувствовало беду. И она не заставила себя долго ждать.
На очередной попойке Шурка насмерть пырнул ножом командировочного.
С Прасковьей Николаевной, когда она узнала об этом, случился удар, парализовало всю левую половину. Ногу-то потом немного отпустило, а вот рука так и осталась болтаться плетью. А в семьдесят-то с лишним на одной ноге да с одной рукой в деревне без помощи не проживёшь. Вот председатель и оформил её сюда, заверив на прощание, что Николай – старший сын её скоро приедет и заберёт к себе. Но прошёл уже почти год, а Николай, её любимец и гордость, всё не появляется. То ли письма не дошли, то ли с самим, не приведи Господи, что случилось…
Незаметно мысли с детей перебрались в родной двор. И поплыли перед глазами небольшой, в три окна, с просевшей крышей и слегка завалившийся набок дом, ветхая, с железной трубой баня, землянка – курятник. В огороде вдоль забора – бурно разросшиеся малина, смородина, крыжовник и яблонька — полукультурка. Яблонька растёт не в общем ряду, не у забора, а чуть в глубь огорода, ближе домику. Она, будто желая заглянуть в окно, подшагнула к жилищу, да там и осталась. Маленьким, беспомощным саженцем принёс её муж домой и посадил напротив окна. Чтоб цвела постоянно на виду да радовала. Но только не судьба ему была видеть её цвет… На следующий год замёрз пьяный.
От воспоминаний Прасковью Николаевну оторвал окрик с улицы.
«Коля приехал!» — мелькнуло в голове . И с трудом поднявшись на враз ослабевших ногах, она с замирающим сердцем посмотрела вниз.
Под окном стояла Зойка.
— Чо, всё сидишь, сынка ждёшь? – прищурившись, зло спросила она.
Прасковья Николаевна, зная, что за этим последует что-нибудь желчное, обидное, снова села. Благо, второй этаж и Зойке её, сидящую, не видно. Но той, видимо, не хотелось уходить от окна, не излив желчи, и она понесла:
— Ну сиди, сиди, дура ползучая. Жди! Так вот у окна и сдохнешь, как собака, а он всё равно не приедет. Не нужна ты ему, понятно? Не нужна! – последнее Зойка прохрипела с какой-то особенной, отчаянной злостью.
Это, да и кое-что похлеще, Прасковья Николаевна уже не раз слышала от неё, но не обижалась. Понимала, чувствовала, что ненависть её от сознания, что жизнь собственная прошла не так, не сложилась. И ничего вернуть нельзя, не начать с начала, не исправить. Понимание этого и убивало Зойку, и делало её ненавистной к людям.
Вернулась Зойка в комнату поздно вечером. Но только какая-то странная. Вошла потихоньку и без своего любимого: «Что, не спите ишо, дуры старые?». И не остановилась, как всегда это делала, в дверях, а сразу прошла к своей кровати. Прасковья Николаевна даже засомневалась: да Зойка ли это вошла? И чтобы убедиться, окликнула. Та и не шевельнулась.
Прасковью Николаевну разобрало любопытство, что же такое произошло, что сломило Зойку? Но спрашивать не стала. Так и уснула с кипящим любопытством.
Разбудил Прасковью Николаевну чей-то негромкий говор. Повернувшись, она увидела у распахнутого окна Устинью. Глядя на тускнеющее небо, та что-то тихо и быстро бормотала. Прасковья Николаевна разобрала только одно часто повторяемое слово: «Господи!»
«Молитву, што ли, читает?» — подумала она и глянула на Зойку. Та сидела на кровати. Вздохнув, Прасковья Николаевна стала подниматься.
Скрип её кровати заставил замолчать на полуслове Устинью и встрепенуться Зойку.
«Ну, щас начнётся», — поморщилась Прасковья Николаевна. Ей всегда доставалось за скрип от соседки. Но в этот раз ожидания не оправдались. Посмотрев на Прасковью Николаевну, Зойка молча поднялась, подошла и присела рядом. Кровать, приняв дополнительный груз, снова скрипнула.
Устинья, шепча и мелко крестясь, прошаркала к своей кровати, легла и затихла.
— Ты, это… Парунька… — тихо и не глядя на собеседницу, заговорила Зойка. – Прости меня за давешнее, ну што я накричала-то на тебя днём…
— Да, ну, чо уж… — растерянно пробормотала Прасковья Николаевна.
— И за ранешнее прости. От злости ить это я… и ругалась, и врала… Врала ить я тебе, Парунька, всё… И про то, што одинёшенькая я на всём белом свете, и про то, што никто мне нужен. Всё врала… Всё у меня было: и дом, и мать с отцом, и дочка Катюша, всё, как у людей было. Да только не уберегла я ничего, всё профуговала. Променяла на красивую жизнь. А когда опомнилась, прибежала к дому, поздно оказалось. Тятя с мамой, соседи сказали, померли. А Катюша продола дом и уехала. А куда – неизвестно… Вот я и подалась сюда… А сёдни-то она, доченька моя, пришла… простила. Сама разыскала меня и пришла… Простила ить, полую, меня… — и всхлипнув, Зойка умолкла.
— Ну и слава Богу, — сказала Прасковья Николаевна, утирая кончиком Плотка выступившие слёзы, — теперь к тебе будет кому ходить. А то, может, и к себе заберёт. У нее семья иль она одна?
— Муж да дочка, — ответила Зойка, — внучка моя. Завтра, сказала, все за мной приедут, — и на мгновенье её лицо озарилось счастьем.
— Ну и слава Богу, — тихо промолвила Прасковья Николаевна и подумала: «И за мной Коленька приедет. Обязательно!»
Она искренне в это верила.

 г. Барнаул, ул. Молодежная, 5
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5