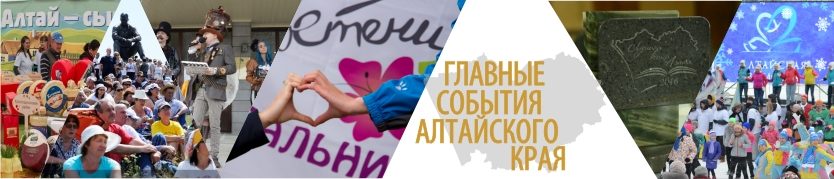На склоне дней его (воспоминания о Григории Николаевиче Потанине)
Гребенщиков Г.Д.
Источник:
Материалы переданы редакцией журнала «Алтай»
В 1915 году, в дни восьмидесятилетнего юбилея со дня рождения Г.Н. Потанина, я написал о нем и напечатал в петербург-ском «Ежемесячном журнале» (Миролюбова) большой очерк под заглавием «Большой Сибирский Дедушка», где, почти с натуры, взял живые черты и подробности о его жизни. Под руками у меня теперь нет этого очерка да и никаких материалов. Боюсь, что кое в чем должен буду повториться.
Вспоминаю также, что перед уходом на фронт в том же 1915 году по просьбе М. Горького я принес ему для «Летописи» сибирский очерк о личности Г.Н. Потанина.
— Да ведь это же акафист! — воскликнул Горький.
— Иначе не могу писать о нем, — ответил я.
Очерк был мне возвращен и затем где-то исчез во время крушения армии.
Если мой «акафист» Г.Н. Потанину не мог появиться при его жизни, то после его смерти я не изменил бы в нем ни одной строчки. Таково мое отношение к светлой его памяти.
И когда я вспоминаю о Г.Н. Потанине теперь, я представляю его монументальною фигурой на широчайшем бело-зеленом сибирском фоне снега и тайги. Точно так же я не могу думать о необъятности этой страны, не представляя одновременно ее Мельхеседека с белооблачною головой. Престарелым, с белой кучерявой головой я знал его, ибо впервые увидал его уже на склоне дней его, и только об этом периоде могут быть мои личные о нем воспоминания.
С кем я могу сравнить его?
В Монголии высшим духовным лицом, вроде римского Папы, является Хутухта. В Сибири таким Хутухтой являлся Г.Н. Потанин с тою разницей, что его почитали все племена Сибири, без различия религий, положений и сословий. Его влияние на сибирскую интеллигенцию, на дела просвещения, на общественную жизнь, на научную работу, на вопросы политического такта — приобрело неслыханные размеры, несмотря на то, что этот престарелый подвижник всегда был изумительно скромен, всю жизнь свою провел в меблированных комнатах, в путешествиях, в трудах, никогда не имел лишнего гроша и терпеть не мог ни позы, ни карьеризма, ни крикливого фразерства вообще.
Между тем как ученый, как сподвижник Пржевальского и Семенова-Тянь-Шанского, как путешественник-этнограф и исследователь Индокитая и Монголии — Потанин хорошо известен далеко за пределами России, и ни один иностранец-путешественник, как бы ни был он знаменит, попав в Сибирь, не мог не навестить ее седого патриарха и не взять у него необходимых указаний.
Но по какому-то своеобразному обычаю у нас в России повелось людей с большой любовью к родине считать патриотами в кавычках. Людей же, как Потанин, борющихся за интересы отдельных областей, защищающих отдельные, часто забытые или угнетаемые племена, повелось считать сепаратистами. Правительство шестидесятых годов отдало под суд Потанина и Ядринцева с их друзьями за то, что они подняли свой голос за учреждение в Сибири местного автономного самоуправления. Потанин и Ядринцев были приговорены к смертной казни, но в то время как они были уже на эшафоте, примчался курьер с помилованием, и «преступники» были отправлены на каторгу. И вот уже в наше время, в XX веке, все еще находятся люди, но уже со стороны крайних левых, которые продолжают обвинять Потанина в «областнических тенденциях», в сепаратизме.
Но и эти люди, по крайней мере, до революции, выступая против потанинских тенденций, никогда не были по отношению к нему резкими. Напротив, чаще всего они даже умалчивали его имя, как бы не решаясь поднять руку на безупречного, святого человека.
И действительно, в 1915 году, когда уже разгорелась великая война, и, казалось, обществу было не до празднеств, 80-летний юбилей со дня рождения Потанина развернулся в неслыханное всесибирское торжество. Более того, в культурный праздник всей России. Не было сколько-нибудь порядочного русского печатного органа, который не посвятил бы горячих или теплых слов, чаще страниц, сибирскому гражданину, сыну простого казака, олицетворявшему собою все лучшие стремления российских ста племен… Вся притягивающая к Потанину сила заключалась именно в широте его общечеловеческой идеи в целом, так красиво гармонировавшей с национальным патриотизмом и совершенно чуждой той жестоко-узкой самостийности и враждебности к России, какую проводил, например, украинский патриарх Грушевский.
Только этим объясняется первый исторический лозунг, под которым выступило Сибирское Областное правительство состава ноября 1917 года, провозгласив величие и единство России рядом с автономиями окраин. Я думаю, что этим объясняется и то, что, избранный Сибирью в председатели Сибирского Областного правительства, уже престарелый Потанин сложил с себя полномочия тотчас, как только почувствовал, что его именем намерен прикрываться корыстолюбивый шовинизм.
Потанин верил, что Сибирь, бедная людьми, но богатая чистым воздухом и чистыми идеями, посеянными в свое время лучшими изгнанниками из России, воздвигнет на своих просторах те бессмертные храмы истинной Свободы, Любви и Красоты, перед которыми чистосердечно склонятся запальчивые головы, огнем и мечом добывающие ныне общечеловеческое счастье.
Придет время, быть может, уже скоро, когда вся объединенная стоплеменная Россия, познавшая в братоубийственной войне жажду мирного труда, увидит, что простая и всем понятная идея скромного и истинно безгрешного Потанина — одна из самых безупречных и воплотимых в жизнь.
Ибо когда человек хорош в себе самом — все люди для него гораздо лучше.
И то, что существуют на земле такие немногие, подобные Потанину, укрепляет и в нас веру, что благо на земле вообще возможно и что, в частности, Сибирь, недавняя проклятая страна изгнаний, каторги и стонов, скоро превратится в благословенную страну, куда откроется паломничество со всех частей света, — к плодам простых и вечных истин мудрейшего сына народа Григория Потанина.
Но большинство из нас больны недоверием, а самое нелепое в нас то, что, ожесточенные взаимною грызней, мы проходим мимо тех сокровищ, которые для нас давно уже лежат добытые нашими предшественниками. Поэтому нам необходимо долбить в голову: смотри, вокруг тебя неисчислимые богатства, чего ж ты бьешься лбом о камни? В самом деле, это было бы смешно, если бы не было так жутко: русская молодежь, такая горячая и в большинстве прекрасная, с широкими общечеловеческими порывами, очень часто бросает куски грязи в те немногие, кристальной чистоты, источники, которые бьют живой струей из родной почвы. Не подумают, не узнают, наплюют, а потом одумаются и начинают сами пить из тех же родников. Да и откуда же пить, откуда знать о благе, как не из тех же раньше нашего рожденья выстраданных мыслей человеческих?
Это говорю я потому, что мы только что были свидетелями того, как стоявшим на краю могилы, трагически молчавшим и великим, подлинным подвижникам, сынам народа, оголтелые толпы кричали дикое и оскорбительное «долой!»…
Познакомился я с Г.Н. Потаниным в 1908 году зимою, когда я только что начал свою литературную работу. Я жил в Омске, где редактировал небольшую газету «Омское слово» и откуда направился в Томск со специальной целью познакомиться с литературным миром сибирской столицы, а главное, с Г.Н. Потаниным. Было это всего лишь 14 лет назад, а кажется, уж Бог весть как давно. Так много пережито в эти годы. В то время в Томске, благодаря литературному салону В.П. Соболевой (жены профессора Соболева, редактировавшего влиятельную в Сибири газету «Сибирская жизнь») царило весьма строгое и прохладное, аристократическое отношение к начинающим писателям. Да их, начинавших, и было мало. Поэт нежных настроений Георгий Вяткин был самым знаменитым. Затем, ступенью ниже, любимец студенчества и обывателей, — юморист «Премудрая крыса Онуфрий» (П.А. Казанский) и еще ступени на три ниже — любимец широких масс Не-Крестовский, автор бульварного романа «Томские трущобы», бесконечно шедшего в одной из второстепенных газет. Только что начал интересовать публику талантливый поэт из барнаульских рабочих Иван Тачалов, и, как всюду, — средней руки литературные любители. Таким образом, понятно, что литературный пантеон все же состоял из публицистов-профессоров типа сотрудников «Русских ведомостей». Кое-кто из томичей сотрудничал в моей омской газете, в том числе несколько студентов.
Были рождественские праздники. Я приехал на несколько дней и сразу понял, что для Томска надо подтянуться, а главное, пойти и испросить благословения на дальнейшую работу у Потанина. Надо сказать, что тогда, перед поездкой к Льву Толстому, веры в свои силы у меня было мало, и отважиться пойти к Г.Н. Потанину, не будучи никем ему представленным, было не так легко.
Гр<игорий> Ник<олаевич> был окружен заботливостью всех его друзей, а друзьями его был весь Томск, и, конечно, все охраняли его от излишних визитов, хотя все молодое и провинциальное, из глухих аулов, из остяцких чумов — все направлялось к нему без очереди по его же настоянию.
Был третий день Рождества, как раз открытие традиционной Художественной выставки, где я увидел Г.Н. Потанина на прекрасном полотне художницы Базановой. Он сидел за своим письменным столом и таким простым, немного грустным взглядом голубых глаз, завешенных седыми крупными бровями, смотрел на меня, точно живой. Мне и до сих пор кажется, что я впервые встретился и познакомился с ним именно здесь, а не вечером в тот же день, когда я пришел в его скромную небольшую комнату с громадными шкафами, заставленными книгами. На столе заметил я ту же кучку бархатных искусственных грибков, что изображены были на портрете, и вообще я сразу почувствовал себя как-то просто и доверчиво, с естественной, конечно, скромностью и благоговением к очень престарелому и небольшому человеку в очках и в черном длинном сюртуке. Эта старость, седина и тихий, с большими паузами, голос почему-то мне внушали мысль, что Г<ригорий> Н<иколаевич> плохо слышит. Поэтому я отвечал ему громко и с тою молодой готов-ностью служить, когда молодость видит перед собою слабое, нуждающееся в поддержке и сочувствии создание. Григорий Николаевич сидел в уголке, около шкафа, встал, плотно притворил дверь в следующую комнату, и, проходя мимо меня и потирая руки, что он делал всегда, когда что-либо его смешило, улыбнулся мне из-под бровей такою удивительною тихою улыбкой, и тем же ровным, тихим голосом сказал:
— Хозяева могут подумать, что вы со мной ругаетесь…
Я вспыхнул до корней волос.
— Простите ради Бога: я думал, что вы плохо слышите.
— Нет, слышу я отлично, а вот видеть стал плохо. Доктор запрещает мне работать при огне, и я должен идолом сидеть весь вечер.
Над этим сравнением я рассмеялся. Мой смех, видимо, заразил Григория Николаевича, и он, похватывая себя за остатки белых кудрей на верхушке головы, негромко, но очень задушевно и тепло смеялся.
Вообще в нем я заметил то, с детства знакомое мне и родное (по отцу я потомок монголов, а по матери — сибирский казак), что замечал я среди стариков казачьего сословья: некоторая резкость в голосе, вернее в букве «р», широкий, быстрый жест, открытый, вольный смех и скупость на слова и еще что-то, невыразимое словами.
Г<ригорий> Ник<олаевич>, заложив руки за спину, стал ходить по комнате, что он делал всегда, когда начинал что-либо обдумывать. Я молчал и ждал. Вдруг он молодо и круто повернулся на каблуках. Я снова покраснел. Ведь я же выказал к его немощности столько глупого внимания, почти сожаления. Он встал передо мною и сказал:
— Я вот думаю, что в вашей газете следовало бы напечатать воззвание о необходимости устройства в Томске Высших женских курсов.
— Конечно, с радостью, но я не решусь составить текст…
— Хорошо, я напишу и вам пришлю, — сказал он коротко и твердо.
Я постеснялся для первого раза долго сидеть у Г<ригория> Н<иколаевича>, но, принеся с собою купленный на выставке фотографический снимок с его портрета, попросил его сделать автограф. Он сел за письменный стол, обмакнул перо и, спросивши о моем имени и отчестве, надписал простую, дружескую надпись. Затем он дал мне одну из своих книг и письмо к одному из его молодых друзей среди студенчества. Счастливым я поехал в Омск, а в Омске ровно через неделю получаю пакет: кудреватым, неровным, но четким почерком было исписано несколько почтовых листков. Это было воззвание к обществу г. Омска о необходимости организации в Сибири еще одного высшего учебного заведения — сибирских Высших женских курсов. Мы с нашим издателем были безмерно горды и напечатали письмо отдельною статьей, за что потом мне от Г<ригория> Н<иколаевича> попало.
«Я вам прислал только материал для воззвания, а вовсе не статью, а вы напечатали его в виде передовой, да еще, не спросивши моего согласия, зачислили меня в число ваших сотрудников», — писал он мне в своем выговоре. Но, конечно, было уже поздно: статья была перепечатана во многих, даже томских, газетах, и фонды нашей газеты сильно поднялись, хотя, по совести говоря, это была маленькая любительская газетка, руководимая людьми неопытными и не по разуму усердными.
Благодаря моему самоуправству в отношении имени Г<ригория> Н<иколаевича> он, когда я переехал в Томск, некоторое время на меня косился с молчаливым недоверием. Но теперь мне радостно вспоминать все дальнейшие мои встречи с ним, которые, с гордостью скажу, вскоре перешли в прямую, трогательную дружбу.
И это несмотря на то, что мои товарищи по редакции журнала «Сибирская новь», который я редактировал в Томске, по преимуществу студенты, вынесли мне и записали в книгу протоколов порицание за новое самоуправство. Было это вот как: в редакции у нас была коллегия, я был редактором, ей подчиненным, но не захотел печатать всего, что мои коллеги одобряли для печатания, тем более что я журнал подписывал. Было бурное заседание, и я с удовольствием вспоминаю, с каким ожесточением меня разносили в моем присутствии. Студент и беллетрист Петров, впоследствии присяжный поверенный, назвал меня «самодержавным богдыханом». Потом все мои противники со мной смирились, и мои молодые вечеринки изредка освещались белоснежною головою Григория Николаевича, который не только не стеснял нас, но, напротив, был верховным воплощением нашего веселого повышенного настроения. Впрочем, много поколений молодежи было осчастливлено его участьем в ее делах и празднествах. Да не подумают не знавшие его, что он принимал участие в каких-либо студенческих попойках, как это мило и совсем непредосудительно делали другие старые любимцы молодежи. Г<ригорий> Н<иколаевич> совершенно ничего не пил, он в те годы даже не ужинал, ложась спать почти голодным. Это делал он для здоровья, и был он действительно почти цветущим для своих семидесяти пяти лет (1910 год). Он только как-то жаловался мне, что, когда гостил в степи у своих друзей киргизов, где он, конечно, пополнял отечественную этнографию, а не просто отдыхал, там не было ни овощей, ни хлеба, ни каких-либо фруктов — только мясо и молоко: коровье, козье, кобылье, верблюжье, — Г<ригорий> Н<иколаевич> с обычным тихим юмором перечислял:
— На первое молоко, на второе молоко, на третье молоко. Мясо я не ел, а молоко в желудке у меня превращалось в залежи гранита.
Впечатлений у меня о встречах и беседах с Г<ригорием> Н<иколаевичем> так много и все они так насыщены содержанием, что хватило бы на целую книгу. Но в этом очерке я не хочу их комкать и излагать вне мест, где все напоминало бы о нем и где самая природа, воздух, дома, люди, книги и оставшиеся от него творения — все дало бы ряд оживляющих, расцвечивающих мою работу деталей. Поэтому еще раз оговариваюсь, что этот очерк — только беглое изложение моих мыслей и некоторых образов, созданных личностью Г<ригория> Н<иколаеви>ча и жизнью, его окружавшею. Я был бы рад, если бы мой очерк своей неполнотой или ошибками возбудил недовольство у людей, лучше меня знавших жизнь Г<ригория> Н<иколаевича>, — и заставил бы их взяться за перо для наилучшего изображения этой крупной человеческой фигуры и эпохи, через которую он величаво проходил.
Не могу здесь не напомнить всем сибирякам и интересующимся Сибирью и личностью Потанина, что самым лучшим, блестящим по форме и классически-художественным по внутреннему содержанию документом его жизни и эпохи более чем за полвека являются личные воспоминания Г.Н. Потанина, печатавшиеся в газете «Сибирская жизнь» и до сих пор не выпущенные отдельной книгой. Я могу смело утверждать, что этот труд по красоте изложения и благородству тона можно отнести к лучшим образцам мировой литературы. (Попутно взываю к сибирякам, находящимся в Томске, и прошу отыскать и сохранить где-либо в музее или у себя эти воспоминания, если даже они сохранены его наследниками).
Где-то дома, на Алтае, я собирал их, и там же у меня хранились вместе с записями сказок и песен, сделанными собственноручно моими полуграмотными и умершими без меня родителями, некоторые мои записи о встречах и беседах с Г<ригорием> Н<иколаевичем>, но я боюсь, что в глуши Алтая все еще пренебрежительно относятся к духовным ценностям и рукописным мыслям, и, может быть, там все искурено в цигарках или использовано на растопки. А в Петербурге вместе с диапозитивами к лекциям об Алтае хранились дивные алтайские этюды Гуркина, ценные фотографии и редчайшие письма Г<ригория> Н<иколаеви>ча, о сбереженье коих тоже мало у меня надежд. Среди этих писем я берег незапечатанное письмо Гр<игория> Н<иколаеви>ча к Сурикову, которого в Москве я не застал в живых. Однажды с таким же письмом Г<ригорий> Н<иколаевич> меня командировал к И.Е. Репину, который трогательно обласкал меня и накормил «сеном» (так назывались у Репина его вегетарианские обеды).
Невольно улыбаюсь, вспоминая об отдельных встречах с Г.Н. Потаниным, и в особенности о его «Воспоминаниях», часть которых, быть может, впервые зарождалась у него и вырабатывалась именно при этих встречах и беседах. Я, бывало, приходил к нему в специальные дни и часы, особенно когда он жил у доктора Рязанова в большой и светлой комнате. Он тогда работал над своей «Сагой о Соломоне», и когда я приходил, то, чтобы не мешать ему, спешил скорей уйти. Но ему, видимо, был нужен именно такой жадный и малосведущий слушатель, как я, и он удерживал меня. Целыми часами он рассказывал мне сказки и легенды, предания или же случаи из своих наблюдений. Когда он что-либо обдумывал или рассказывал, он непрерывно ходил. Мне было неловко сидеть, когда он на ногах, поэтому я старался стоять. Но он прикосновением рук к моим плечам усаживал меня в свое удобное кресло и продолжал ходить мимо меня и говорить. Говоря, он не любил размахивать руками, поэтому он их держал все время за спиною и делал жесты лишь в самых значительных местах, когда рассказ озарялся каким-либо героическим или смешным моментом. В эти именно моменты он останавливался передо мною, и, улыбаясь тихою, далекою улыбкой, в которой оживали сказки, он делал выразительный широкий жест и, как бы сконфузившись, притрагивался правою рукою к своим волосам и снова начинал ходить и говорить. Ходил он долго, у него кружилась голова от частых поворотов в углах комнаты, он начинал пошатываться и все-таки ходил. Надо ли упоминать, что говорил он с удивительною простотой и образностью и с тем тонким, почти неуловимым юмором, наиболее острые и ядовитые места которого часто обращал по своему адресу. Я часто спрашивал себя: почему именно мне так много он повествует? Я знал, что я не из любимейших его друзей. Без чувства ревности скажу, что он нежнее относился к другу моему, писателю Вячеславу Шишкову. Между прочим, это один из тех моих неизменных старых друзей, дружбу с которым мы начали длиннейшей и нежнейшей перепиской, живя в одном квартале, почти рядом. Шишков старше меня лет на десять, и талант его в то время блистал в томских салонах именно тем, что он, будучи путейским исследователем на реках Лене, Тунгуске, на Чуе и т.д., умел вы-хватывать из наблюденной жизни и из народного быта самые смешные и трогательные случаи и притом чудесно сам это читал. Да и характер его, мягкий, улыбчивый, уютный, располагал гораздо больше, нежели мой суровый «богдыханский» нрав. Были у Г<ригория> Н<иколаевича> друзья и посолиднее нас с Шишковым: это А.В. Адрианов — ясный мыслитель, гражданин, археолог, богатырь-охотник, ходивший врукопашную на медведя, который и сорвал ему своею лапой пол-лица. Затем семейство ректора Технологического института Е.Л. Зубашева, знаменитый геолог Обручев, мировой судья Готтенберг, профессор Вейнберг, сын известного поэта Петра Вейнберга, И.А. Якушев, братья Крутовские, супруги Соболевы, знаменитый путешественник, доктор ботаники проф<ессор> В.В. Сапожников и многие еще… Но я знаю, что к каждому из этих друзей Потанин подходил отдельной гранью своей богато одаренной души. Он всегда умел с таким редчайшим тактом всех объединить, и в особенности вдохновлять на какое-либо новое культурное дело, что всегда выходило так, будто во всем он только мало помогает, а создают все другие. Однако никто никогда не сумел его имя использовать для какой-либо партийной борьбы или для корыстных личных целей. Впрочем, имя его было окружено такой непререкаемой высокой моральной чистотою, что оно могло всех только освещать, подбадривать и вдохновлять. Глубокий такт, высокая культура духа, дисциплина мысли и истинное благородство сочетались в нем с такой нелицемерной скромностью, что это было для всех знавших и не знавших его так же благотворно, как воздух, свет, не затуманенное солнце.
Лишь значительно позже я стал догадываться, почему Г<ригорий> Н<иколаевич> относился ко мне с таким вниманием, почти с отеческой заботливостью. Быть может, он уловил во мне ту первобытную нетронутость народной почвы, на которой лучше прорастают его семена. Я был моложе всех, я был настоящий выходец из простой среды, и я, по его мнению, мог вспыхнуть настоящим пламенем его идей. Когда я должен был читать первый свой доклад «Река Уба и убинские люди» (слабый намек на материал будущих «Чураевых»), он окружил меня таким вниманием, что одна из лучших зал Технологического института была переполнена избраннейшими людьми. А.В. Адрианов лично помогал мне в демонстрациях этнографических моих предметов. А после доклада Г<ригорий> Н<иколаевич> сам написал о нем рецензию, как он сам же написал статью и о поэме «Киргиз», дословный перевод которой (с польского) мне помогал делать мой незабвенный друг А.К. Голимонт. Мало того, Г<ригорий> Н<иколаевич> подбил меня поехать с моим докладом в Омск, Новониколаевск, Красноярск, Иркутск, Черемхово, но, к стыду своему, я почти всюду провалился, ибо около меня не было столь оживляющей руки Потанина. В Иркутск, кроме того, явился я без сюртука и без валиков, на которых у меня были записаны мотивы песен: по дороге из вагона у меня украли чемодан, и выступление в простой черной рубашке меня так переконфузило, что я послужил материалом для очень злой заметки фельетониста Чужака.
Однако несмотря на это, Г<ригорий> Н<иколаевич> продолжал верить в мои силы и даже в моем отсутствии, когда я зимовал на Бухтарме у китайской границы, рекомендовал меня группе барнаульской интеллигенции в качестве редактора газеты «Жизнь Алтая».
И наконец, когда вышли первые мои книги сибирских рассказов, я получаю в Петербурге письмо от Г.Н. Потанина, из которого отчетливо помню очень взволновавшие и смутившие меня строки: «Знамя Ядринцева лежит не поднятым, и я думаю, что это вы должны его поднять и понести в будущее».
Но я не оправдал надежд любимейшего своего учителя. Ни Горький не заразил меня безумством храбрых, ни Лев Толстой, одобривший во мне призыв сынов народа обратно на работу на земле, и ни Г.Н. Потанин, надеявшийся, что я подниму ядринцевское, то есть его, потанинское, знамя, — никто не сделал из меня своего честного последователя. Жизненные бури треплют мои душевные устои, а огонь военного и революционного периода своеобразно переплавляет их. И здесь не место и не время говорить о том, куда и как влечет меня моя судьба. Одно бесспорно: дух Потанина вздувает паруса моей ладьи, но только я еще не знаю — для плавания ли по необъятной Сибири или для безбрежного пути по всем неогороженным краям земли?
Меня спросят:
— В чем же вы видите, что Потанин был больше того, что видят в нем его современники и нелицеприятные ценители?
— Не знаю! — будет мой ответ. — Быть может, в том, что недоступно никакому просвещенному анализу, но что как-то без слов и действий, помимо фактов, сквозь все буднично-житей-ские явления, излучается и беспредметно созидает.
Никогда не забуду, как однажды в церкви я был с маленьким своим сынишкой (теперь ему семнадцать лет, я не видел его семь лет, в течение которых он, будучи в России, кажется, опередил меня в переоценках ценностей). Ему было около четырех лет, и дедушку Потанина он любил радостной детскою любовью. Над иконостасом церкви был нарисован Бог Саваоф. Ребенок поднял ко мне личико и с благоговением спросил:
— Это дедушка Потанин?
Из этого вы можете понять, что образ «дедушки», вся атмосфера, окружавшая ребенка, разговоры, чтение книг — все было проникнуто чистотой этого образа.
И вот я, вспоминая это детское невинное кощунство, думаю теперь, что этот старик, не носивший в себе никаких признаков ханжества или религиозного сектантства, был поистине создан по образу и по подобию божьему.
Вся жизнь его — это одно из прекраснейших человеческих шествий по земле. И он одинаково был красив и величав в скорбях и в радостях.
Проследите по его «Воспоминаниям» его годы в каторге, эти ранние утра, когда их выгоняют дробить камень — «самое любимое занятие» Г<ригория> Н<иколаеви>ча, его жизнь в камерах с закоренелыми убийцами, на душе которых было до 19 убийств, — и вы увидите его влияние не только на заключенных, но и на тюремщиков, которые, заставивши его копать в огороде, просят не копать, а «что-нибудь рассказывать».
Любовь его к людям была так велика и светла, что он никогда не жил личной жизнью и никогда не забывал даже малейшей просьбы какой-либо сумбурной личности. Ничего не записывая, он всех помнил и, даже когда совсем ослеп, узнавал людей по голосу через долгие годы. До такой степени он принадлежал служению людям.
В то время, когда он стал совсем плохо видеть, его друзья стали его ежедневно навещать, чтобы переписывать его труды, читать ему письма и газеты, и в особенности провожать его по улицам. Его, конечно, это стало тяготить: как так? Он привык служить всем, а не все ему. И вот он разыскал какую-то простую девушку, дочь кухарки, едва грамотную и, развивая ее, заставлял читать и писать под диктовку, давал ей починять свое платье, ходил с нею гулять и вскоре уравнял ее в правах с собой настолько, что стал вводить ее в дома, где сам бывал, как равноправную со всеми. Девушка очень конфузилась, неграмотно выражалась и краснела, и друзья Г<ригория> Н<иколаевича> вскоре стали звать ее Антигоной. Часто можно было наблюдать, как Г<ригорий> Н<иколаевич> под руку с Антигоной переходил какую-либо людную улицу, причем шел так, будто он ведет слабую девушку, а не она его.
Но после одной тонкой операции у него в зрении наступил просвет. Он стал ходить один, набросился на письменную работу, хотя друзья следили за ним строго и поочередно приходили к нему в рабочие часы, чтобы писать под диктовку. Иногда, диктуя мне, он прерывал работу и начинал о чем-либо рассказывать, чтобы дать мне отдохнуть. Так он рассказал мне историю своей трагедии, когда в Тибете во время путешествия у него умерла первая жена Александра Викторовна и как он долго вез ее мертвую в лодке, чтобы похоронить в Кяхте.
— После того, — заключил он, — я плакал непрерывно девять месяцев… Не хочу, а плачу. Должно быть, тогда что-то попортилось в моих глазах. — И я заметил, что глаза Г<ригория> Н<иколаеви>ча наполнились слезами, веки покраснели, а сам он мило, тихо улыбался.
Его друзья из Петербурга или из Москвы, не помню, прислали ему диктофон, и вот на мою долю выпало писать под его диктовку письмо о благодарностях. Письмо это было полно неж-ности и юмора, т.к. диктофон внушал Г<ригорию> Н<иколаеви>чу нечто враждебное, и мысли, которые он говорил этой машине, делались чужими… Не знаю, послал ли он это письмо, но, прослушавши написанное, он отложил письмо и сказал мне:
— Надо подумать — посылать ли в этом виде. Люди мне хотели услужить, а я высмеиваю их подарок…
Иногда Г<ригорий> Н<иколаевич> ходил со мной на выставки картин и тут же сам себя вышучивал:
— Ну что же, раму вижу, а что в раме — не пойму. Давайте расскажите своими словами.
Я рассказывал и иногда, признаться, без стеснения критиковал то, что находил нелепым вырождением искусства. Художники же, стоя позади нас, слушали, и Г<ригорий> Н<иколаевич>, допуская это, укрощал меня:
— Вы говорите так, будто сами академик…
И все-таки заставлял меня высказывать свои суждения почти у всех хороших и дурных новинок. Конечно, у нас был ряд художников-любимцев, как Щеглов, Никулин, и в особенности алтаец Гуркин и др. Однако с каждым годом появлялись новые, новых, нам не понятных школ, которые не видели или не хотели зарисовывать своеобразной и могучей силы сибирской природы, ее зверя, и в особенности человека на фоне разнообразного пейзажа, в атмосфере всевозможных климатов и еще живого эпоса. И почти не было в картинах быта. Все какие-то пейзажики, летние хорошенькие видики, немножко портретиков и натюрморты во всех видах.
— Ну написали бы какую-либо бабу, у которой в снегу, в тайге, на морозе, выпряглась лошадь, а она дует в коченеющие руки и безнадежно смотрит на угасающее солнце в рукавицах… Да мало ли!
Впрочем, помню картину, кажется, Травина, где была написана мощная река, а за рекою воющая одинокая собака, потерявшая хозяина…
— Здесь, по крайней мере, чувствуется мощь стихийной власти и одиночество девственной природы. Вой собаки точно взывает: «О, человек! Где ты? Приходи же!..»
Почти со всеми подобными рассуждениями моими Г<ригорий> Н<иколаевич> соглашался и даже настоял однажды, чтобы я написал статью об этом.
Я написал и напечатал в «Сибирск<ой> жизни», и художники меня клеймили за непонимание искусства, а из-за меня в кулак поругивали и Г<ригория> Н<иколаеви>ча.
И вот несутся жуткие годы.
У нас, сибиряков, разбросанных войной и смутой по разным концам земного шара, нет никакой связи с своей необозримой, ледяной и сказочною родиной.
Сведения с Урала — это не сибирские сведения, отзвуки с Дальнего Востока — это не Сибирь. Из Москвы, с Кубани, с устья Волги — отовсюду, если говорилось о Сибири, говорилось вскользь, иногда очень нелепо и во всех случаях так или иначе неверно.
Наконец в 1921 году, в марте, в Париж приехал сибирский деятель, успевший с фронта великой войны через многочисленные фронты Гражданской войны пробраться на родину в Томскую губернию, а оттуда, после крушения армии Колчака, через степи, тундры и тайгу, через Байкал, через Китай и океан — появиться в Западной Европе.
Жутью и неистребимой жизненною силой пахнуло от рассказов этого сибиряка.
Отрывочно и беспорядочно задавались вопросы, и не было возможности все сразу охватить, обо всем вспомнить и спросить.
Одно ясно и определенно, и об этом мне земляк мой сообщил прежде всего и с гордостью:
— Сибирь не запятнала себя позорнейшим сепаратизмом и не подняла руку на свою несчастную мачеху Великороссию…
Вдали от морей, от культурных стран, вдали от Европы и от европейской России Сибирь залегла на своих тучных, жирных просторах и молча ведет тяжелую борьбу против всеобщей послевоенной страшной эпидемической болезни — смуты, нищеты и голода.
— Ну а что хорошего в Сибири? — спросил я далее и во главе этого хорошего прежде всего поставил ее величайшего гражданина: — Где Григорий Николаевич Потанин?
— Потанин умер! — последовал многозначительный ответ, и минута общего молчания длилась долго, как будто этот ответ был неожиданным или равнозначащим тому, что и все хорошее в Сибири умерло…
— Да, Потанин умер в Томске, кажется, в июне 1920 года… И умер своей смертью: ни у кого не поднялась рука на этого святого человека.
Да, жизнь Потанина, полная тихого и светлого подвига, жизнь, в продолжение 85 лет излучавшая из себя свет и любовь, творчество и истинную мудрость, прервалась, закончилась.
Прервалась 85-летняя прекрасная, неповторяемая повесть, которой в свое время будут зачитываться все люди, без различия национальностей, вероисповеданий и сословий.
И вот начало этой дивной повести, никем не сочиненное, а лично мне рассказанное самим Дедушкой, со слов его родителей.
…Один из ханов, кажется, Хивинский (передаю по памяти) решил послать в подарок русскому царю редчайшего белого слона. По поводу этого слона завязалась длинная переписка с Питером, затем была снаряжена особая и дорогая военная экспедиция, и во главе отряда был поставлен сибирский казачий хорунжий.
Дело было серьезное, ответственное и на многие месяцы. Хорунжий только что женился, не хотел расстаться с молодой женой и взял ее в командировку. «Скоро сказка говорится, да дело мешкотно творится». Слон шел-шел и зазимовал в степях, а молодой офицерше Бог дал в дороге сына, и надо было отвезти его домой в станицу. Бережно кутала молодая мать малютку, заботливо обставил степное путешествие отец, и для матери с сыном соорудил даже особые розвальни, на которых на мягком сене, лицом назад, чтобы не обморозил встречный ветер, сидели супруги и поочередно держали драгоценный узелочек с сыном. Но скучная дорога, лунная ночь, белоснежная степь, визгливое пение полозьев, сладкая дремота и усталость, мечты о будущем — все это навевало не менее сладкие белые сны о белом слоне — признаке редкого счастья. И вот мать вскрикнула:
— А где же Гриша? Я, кажется, тебе его передала…
— Как мне?.. Нет, ты сама его держала!..
— Да что же это такое… Или это во сне у нас с тобой был сын? Его ведь нет у нас!..
— Да ты очнись, голубушка!.. Ты в самом деле потеряла ребенка?..
— Ну а ты-то где был?.. Боже мой! Значит, он с дровней упал, теперь, конечно, замерз или его волки разорвут.
И молодые супруги, спрыгнувши с дровней, друг за другом убегают как безумные по слабым следам дровней назад, все дальше, в глубь мертвой степи…
Бежали они, как им показалось, очень долго. И нет нигде их сына. Подумали, что пробежали или, может быть, он на дровнях среди узлов лежит…
Однако все-таки бегут дальше и наконец видят: в сторонке у дороги, в снегу, как раз возле ухаба, лежит знакомый узелочек вместе с подушкой, и на ней, уставивши курносый носик кверху, мирно посапывает пятинедельный путешественник… Даже не успел еще проснуться. Спит на степи, как в сказке богатырь… Подхватили его на руки счастливые родители и побежали обратно по степи вдогонку за своей подводой…
И этот крошечный путешественник был никто иной, как Г.Н. Потанин, а тот, для кого предназначался белый слон, был маленький наследник Николая Первого, будущий Царь-Освободитель, по указу которого была произнесена смерть Потанину и по милости которого он был с эшафота отправлен на каторгу. Кто скажет, что в этом плетении судьбы нет ее красивого предуказания?
…И вот — восемьдесят пять лет жизни, радостной и скорбной, светлой и мудрой, и наконец смерть на своем посту, со своим знаменем, в своем родном краю, превращенном в страшную, голодную, холодную, бесправную, кровавую тюрьму-пустыню, какой не было ни при каких царях.
Да, умер дедушка Потанин, а я не верю. Нет, он не умер и не мог умереть, как и там, в глухой степи… Он только сладко спит, и вся его будущая долгая прекрасная жизнь снова впереди. Вот почему мне радостно посоветовать вам, читатели, при первой возможности изучить житье и подвиги великого сибиряка: в них вы найдете для себя большую крепость духа и бессмертную веру в жизнь и в человека.
И опять вы спросите меня:
— Откуда у вас этот оптимизм, когда, лишенные родного края, и сами вы едите горький хлеб чужбины?
— А оттуда оптимизм мой, — я отвечу вам, — что, когда Гр<игорий> Ник<олаевич> Потанин всходил на эшафот, — для него, а в особенности для нас, его учеников, и каторга явилась плодотворной радостью. Какое же нужно иметь низкое малодушие, чтобы отчаиваться в нашем положении!
И вот я полон самых радостных надежд на будущее своей родины и вообще на будущее человека, доколе он хранит простую мудрость и чтит мудрейших праотцев и дедов.
Май, 1923 г.
Висбаден

 г. Барнаул, ул. Молодежная, 5
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5