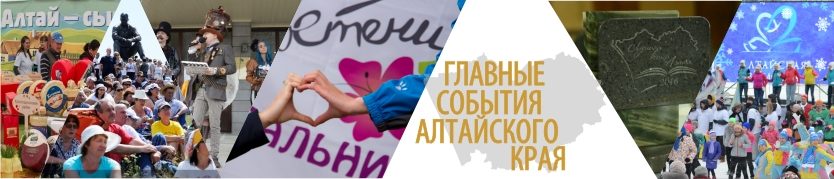Радонега
Сказание о неугасимом свете и о радужном знамении жития преподобного Сергия Радонежского к 600-летию со дня его вступления в Хотьковский монастырь
Гребенщиков Г. Д.
Источник:
Материалы переданы редакцией журнала «Алтай»
СОДЕРЖАНИЕ:
ГОНЕЦ
Осеннею
листвой затрепетал прощально
Последний
русский серебристый тополь,
И
темною полоской в дыме погребальном
Исчез,
в слезах невольных, Севастополь.
Безвестность
впереди тоской объемлет душу.
Навстречу
гибелью грозит Девятый Вал.
Но
кровью обагренную родную сушу
Пловец
навеки в сердце заковал.
Не
сдавшимся, не трусом и не беглецом
Спешит
отверженный от разъяренной смуты,
Но
протестующим, самоотверженным Гонцом
Он
устремлен к Всевластному Кому-то.
Он
не сомкнет в пути скорбяще-зорких глаз
И не
упьется, жаждущий, в чужом пиру,
Чтобы
во всех краях, средь многих чуждых рас,
Исполнить
свой обет отшельника в миру.
И
пронесется он по воле всех ветров,
По
всем морям пройдет в ладье убогой,
Согнется
под сумой средь нищенских шатров,
Но
не согнет спины у вражьего порога.
Лишь
в белых облаках, дворцах из перламутра
Найдет
Гонец Обитель Высших Сил.
И
будет Божий Суд во всем сиянье Утра,
И
тьма сгорит в огне Божественных Светил.
Георгий
Гребенщиков
Дорогие
друзья!
После
долгого молчания я решил написать это письмо тем из вас, кто еще не утратил
редкую нынче способность — верить, надеяться, мечтать. По нынешним временам это
наивно, но наивность — первое качество юности, присущее не только молодежи, но
и наиболее счастливым старцам.
В
нашу страшную эпоху всеобщего упадка веры в ближнего, в эпоху горьких
разочарований и потрясающих предательств, в эпоху умерщвления идеалов вообще —
нам так необходимо хоть во что-либо поверить, хоть чему-либо порадоваться, хоть
о чем-либо наивно помечтать!
Да,
вы правы, упрекая меня в том, что иногда, вместо расширения, я суживаю свой
путь. Я сознательно ухожу с большой разбойничьей дороги на глухую, узкую лесную
тропу. Но это не значит, что я ухожу от людей. Это значит, что мне хочется
уединенно, крепче и глубже о них подумать, а еще лучше — что-либо сделать,
испытать выносливость своих физических и духовных мускулов, проявить простое
трудолюбие, проверить себя: могу ли сделать сам то, о чем пишу и к чему зову
других. Но… «Горе мне, аще не благовествую!» — однажды воскликнул апостол
Павел.
В
нашем суетном и многогрешном бытии мы, конечно, не достойны даже и сравнивать
себя с благовестителями высших истин жизни, но искать их, но мечтать о них и
действенно испытывать, по силе разуменья укреплять в себе светлые идеалы,
полученные нами в наследие от истинных подвижников прошлого — это мы можем и
должны.
Поэтому
считаю уместным и своевременным ваш вопрос о том, что я подразумеваю под словом
«Радонега»?
В
мыслях мой ответ складывается очень просто, а словами объяснить его сложнее.
Однако постараюсь уточнить его как сумею.
Радонега
как слово происходит от древних русских понятий, столь созвучных и даже
дополняющих одно другое слов: Радуница — послепасхальный день поминовения
родителей, родителей усопших, но давших нам жизнь; Радуга — спектральная
гармония солнечных образований полукруга на небесном склоне, после большого
летнего дождя. Само по себе это явление природы дает чудесное знамение,
прекрасное и во многом символическое. Отсюда непосредственная связь со словом
Радость — нечто малообъяснимое физически, но явное в смысле возвышения наших
эмоций, нашего духа, как бы позванного небесной Радугой в высоту, в неведомый
нам мир возвышенных чувств и устремлений.
Чтобы
логически и символически связать эти три понятия в одно, нам более понятное и
глубоко знаменательное, само собой напрашивается древнее русское слово Радонеж
— скромный, ныне почти позабытый и уже не существующий подмосковный городок, из
которого произошел один из величайших строителей нашей Родины — Преподобный
Сергий Радонежский.
Но
так как в своей книжке «Радонега» мне хотелось собрать и выразить мысли и
образы не только о прошлом, но создать из них послание (message) к Грядущему,
то есть, опираясь на примеры прошлого, как бы вынести некий урок для будущего,
я и решил назвать свою книжку этим новым словом Радонега. Пусть это новое слово
несет в себе добрые старые семена для нового посева. Пусть в этом понятии
прозвучит, кроме исторических справок, призыв к новому действенному построению
той Обители Духа, которая ныне столь кощунственно повсюду разрушается.
Как
я уже сказал, я сделаю это по мере своих сил и разумения, не претендуя на
безукоризненность своего труда, тем более что размеры этой книги мне не
позволяют использовать все собранные материалы полностью. Да и как послание,
как призыв к разрозненным сердцам, она не должна быть громоздкой.
Чтобы
дать отчет о мотивах, побудивших меня сделать
отступление от своих обычных, светских, писаний и написать «Радонегу», я
позволю себе несколько уточнить эти мотивы.
* *
*
Прошло
уже почти десять лет с тех пор, как мой «Гонец» передал вам мои первые письма с
Помперага. Сколько воды и крови утекло с тех пор! Сколько ушло испытанных
друзей, сколько братьев превратилось в недругов! Сколько погибло надежд и
дивных намерений под осколками разбитой Правды Прошлого! Все эти десять лет я
все же высидел на Помпераге, правда, с большими пробелами в своей программе и с
огромными моральными и трудовыми потерями. Многое не выполнил как того
хотелось. Но несколько больших путешествий по Америке и два из них — от
Атлантического до Тихого Океана и обратно — оказались сверх программы. Они
ободрили, окрылили мой дух и многому научили.
Писал
за эти десять лет очень мало и как-то об этом не жалею. Не жалею потому, что
все еще учусь создавать качество, а не количество, чтобы словам было тесно, а
мыслям просторно. Кроме того, по правде говоря, не чувствовал настоящей связи с
вами и с родным народом.
Да и
где он, кто он ныне — настоящий русский народ? Даже многомиллионные массы,
обитающие ныне в самой России в эту эпоху — не настоящий, не родной народ. Но
все же только там, в огне и страшных испытаниях в просторах до основания
потрясенной Родины выковывается настоящий русский народ. Он должен быть
фундаментом моих надежд, причиною моих самых радужных мечтаний и моей
непрестанной тоски. И я пишу, тружусь, тоскую и терплю — только для них, для
грядущих поколений Великой Будущей России.
Но,
как много раз повторялось, Будущее никогда не рождается само собою. Оно
вырастает из корней Прошлого. Если даже корни вырваны — нужны семена с того же
древа, которое вырастало и крепло целые века. Поэтому никто: ни знатные
единицы, ни самые могучие коллективы — никогда не смогут ничего создать
великого и настоящего, не опираясь на достижения прошлых поколений.
Политические веяния, их борьба и насилия — только кратковременные вспышки
времени. Душа же народа многовечна и в сущности своей неистребима. И чем
тяжелее ее испытания, тем сильнее и победнее ее рост в грядущем.
Я
верю, горячо и крепко верю, что и народы России, во всей многоплеменности, во
всем многоязычии, пойдут по путям, отмеченным великими подвигами прошлого,
великими светильниками Родной Старины. Конечно, все народы неизменно идут
вперед, к чему-то новому, но так как Свет Един, и Свет, испытанный героизмом и
святостью истинного Подвига, всегда основанного на Любви, Вере и Надежде, на
отказе от своих эгоистических интересов, на постоянном духовном созидании, а не
на разрушении Жизни, — то народы не могут не пойти по тем же следам Испытанного
Абсолютного Добра.
Итак,
Будущее — это сад, вырастающий из вечных и чудесных семян прошлого, но он
вырастет только при посредстве настоящего. Настоящее — это тот заботливый
садовник, без которого все в саду заглохнет и зарастет бурьяном. И несчастен
тот народ, который живет в эпоху сомнения, безверия, духовного бездействия. Он
лишается участия в построении Грядущего, а лишенный этого участия, он умирает.
Посмотрим
прямо, широко и зорко на настоящее нашей Отчизны. Оно кажется отчаянным, и муки
и жертвы миллионов людей не поддаются описанию. Но кто смеет сказать, что
Русский народ умирает? Он не только жив, но он являет собою чудо невероятного
преодоления ужасающей эпохи. Не в силу его политической неволи, а именно
вопреки ей он встает Гигантом, мускулы которого закалены в огне и адских муках
и потому являются ничем и никем несокрушимыми. Может ли быть, чтобы у этого
Гиганта не было души и сердца, а следовательно, и Веры, Надежды и Любви?
Когда
мы смотрим на многоцветную радугу русского искусства и особенно когда радуемся
победному шествию по всему миру русских песнопений и литературных произведений
наших классиков-писателей, мы невольно оглядываемся назад, к истокам былых
построений и достижений, к корням нашего исторического бытия. Только там, в
кузнице великих испытаний прошлого, складывались всепроникающая печаль наших
песен или всеокрыляющая победная радость хвалебных гимнов или восторженных
народных и церковных песнопений. Только оттуда, из кладезей искания правды
Божией и чистого подвига, согретого кроткою любовью к Богу и к человеку-брату,
черпала наша литература ее боговдохновенные гуманитарные идеи и возвышающие
образы. Безымянные летописцы давно не существующих скитов и обителей были
первыми столпами русской литературы. Без этих источников вдохновения, без этих
традиций и религии прошлого не могло быть ни Ломоносова, ни Пушкина, ни Гоголя,
ни тем более Достоевского и Льва Толстого. Все наши композиторы, все наши
художники и скульпторы, великие певцы и артисты, великие государственные
деятели и даже ученые — все они обязаны своими достижениями тому былому нашего
отечества, которое когда-то получило ореол святости, создало легенду Града
Китежа, удостоилось названия Дома Пресвятой Богородицы.
Вот
почему было бы неблагодарно и даже недобросо-вестно для каких бы то ни было
потомков Православной Руси утверждать, что прошлое достойно забвения и даже
порицания. Пренебречь, а тем более надругаться над тем, что в течение столетий
почиталось миллионами народа, было для него святынями и дало столь богатый плод
культуры — это значит быть отступниками от своего народа, разрушителями
настоящих и будущих путей и русской, и общечеловеческой культуры.
Излишне
спорить о том, какой великий грех был вскормлен невежеством прошлого, но это
невежество, это мракобесие, выросшее к нашим временам в чудовищное
самоистребление, явилось результатом все того же отступничества от истинно
христианских устоев духа, которое привело Россию в ее современный ад. За это мы
и несем справедливое наказание. Но можем ли мы быть судьями даже этой грешной
части прошлого, коль скоро сами не способны устроить нашу жизнь на лучших
основаниях? Те же из современников, кто мог бы, по качеству своих действий,
возвысить голос против этого греха, неминуемо должны черпать все те же
вдохновения и лучшие примеры из Великого Прошлого, и потому это они, подобно
царю Давиду, должны воскликнуть:
—
Господи, устие моя отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою!
Именно
хвалу Богу, молитвенную благодарность за все, Им посланное, есть ли это радость
достижения или очищающий пламень испытания — должен испытывать всякий разумный
русский человек. Ибо много неистребимых сокровищ получил он от прошлого своей
отчизны, которая многократно прославлена и просияла подвигом ее святых
подвижников. Среди этих подвижников один из первых, один из примернейших
утвердителей смысла бытия и светодателей — всем племенам России является
преподобный Сергий Радонежский, бессмертный в своем деянии на все времена.
Поэтому
в наши смутные дни всякий современный человек, а образованный тем паче, должен
задуматься над простой и непреложной истиной:
Мы
ничего не знаем о Боге, как насекомые не знают и не могут знать о человеке. И,
несмотря на большой технический и научный прогресс, было бы слишком
самонадеянно думать, что новые поколения знают больше, чем ушедшие.
Кротость
и смирение перед волей Божией, сознание своей зависимости и ограниченности во
всем были основными мотивами подвига многих святых мужей мира сего во все
времена. Именно через эту кротость начинали они свой трудный и светлый путь к
постижению Божественной мудрости. А эти постижения привели их к чудесам веры и
приближали к Богу, а стало быть, и к сокровенным таинствам и к радостям, нам
ныне не понятным.
Однако
не попытка что-то разъяснять или кого-то поучать о многократно и вдохновенно
разъясненных истинах побуждает меня писать и говорить о житии святых
подвижников, но внутренняя потребность благодарности Творцу за то, что по Его
Промыслу такие подвижники существовали и в сонме обликов Святой Руси являли
собою яркие светочи незакатных радостей, к которым всегда и всякими путями
человечество будет стремиться.
* *
*
Друзья
мои, далекие и близкие, настоящие и будущие! Цель настоящего моего письма к вам
заключается, конечно, не только в том, чтобы вместе помечтать о лучшем Будущем
и тем ограничиться. Цель эта в том, чтобы мечту хоть частично, по мере наших
сил, превратить в созидательное действие. Много добрых мыслей превратилось в
чудные явления жизни даже в наше время, на наших глазах. Еще вчера мечта,
казавшаяся несбыточной, а сегодня — дивное сооружение архитектуры: храм, музей,
библиотека. Еще вчера — мечта изобретателя, казавшаяся безумной, ныне является
осуществленною действительностью, обслуживающей человечество: электричество,
аэропланы, радио.
Но
так как в технически усовершенствованной, цивилизованной жизни преобладает
диктатура материализма, то все технические достижения, все наши удобства и комфорт
жизни не только не дали нам настоящего счастья, но они отняли у нас все наше
время и превратили нас в рабов мелочного недосуга. Более того, материализм
удушает целые народы и весь мир, создавая непрерывные войны и революции,
забастовки и восстания, а с ними вместе карательные усмирения, массовые казни,
ужасающую преступность.
* *
*
Логически
или, вернее, трагически встает вопрос:
—
Можем ли мы, современное поколение, остановить или задержать нависшую над миром
разрушительную катастрофу?
На
это можно было бы ответить следующим образом:
—
Все зависит исключительно от нашей веры в добрые начала жизни: если мы способны
верить, что можем, то и самые препятствия к предотвращению катастрофы обратятся
в помощь. Если же будем колебаться, сомневаться и бездейственно перепираться
друг с другом — катастрофа только ускорится и разрушительная сила ее
увеличится.
Но
всякая вера без дела — мертва, и потому нужно немедленное действие, пусть даже
малое, посильное, пусть не всеобщее, а лишь в пределах единичного подвига, — и
тогда изумительное чудо духовного, а следовательно, и общественного
оздоровления и государственного возрождения будет явлено, — если не для всех,
то хотя бы для тех, кто действует. Ибо весь мир лежит не вне нас, а в нас
самих. Весь мир изменится к лучшему в тот самый момент, когда озарится смыслом
жизни наше личное сознание.
О
каком же действии мы можем говорить?
Пока
что, пока мы разрознены, — только о действии духовного отрезвления, морального
самоочищения и просто трудового напряжения. Все равно в какой роли, в каком
труде, но с неуклонной, вдохновенной мыслью — помочь Родине нашей, Русской
Земле, в ее духовном и творческом оздоровлении.
Всем
сердцем с Вами,
Георгий Гребенщиков
7
января 1938 г.
Чураевка
на Помпераге
За
тьмою тех времен, когда еще ни тьма, ни свет не знали дня и ночи, когда еще ни
время, ни пространство не были никем, ничем сотворены; когда еще не начиналось
никакое бытие, когда все поглощала пустота или бесцветное, безликое Ничто,
блуждающее без границ, без формы и начала, в хаосе распространенное, — тогда,
еще тогда во тьме безвременья, бездневия, безночия носилось Некое Зерно
грядущих сотворений, таинственное Семя мирозданий — Начало Всех Начал. Тогда в
утробе Хаоса, во снах без сновидений, без памяти о всепрошедшем, без грез о
всегрядущем уже покоился непробужденный Бог.
Была
безвидна и пуста бездонность тьмы, и не было ни тверди, ни начатков света, и
Божий Дух носился над туманами как нерожденное дитя среди миров
непробужденных… Бесследно шли тьмы тем безвремений, и не было конца
божественному сну в ночи.
Но
вот когда-то в глубине глубин вневременных настал час пробуждения, и Бог
затосковал во тьме, устал в бездействии и нехотя открыл всевидящее Око, увидел
тьму и пустоту и хаос. И Он вздохнул всею силою тоски, и загремели громы в
безграничности, и в бесконечности времен настало Время. И в громах появился
отблеск Ока, и во тьме блеснул свет первых гроз. В борьбе с покоем тьмы
проснулась Воля, в грозе и бурях Хаоса — всесильный Свет. И то, что некогда
было безмолвием, стало Гласом, и отзвук Гласа зазвучал во всех углах Вселенной
и пробудил и позвал мертвое небытие к извечной Жизни и возгласил Грозе и Буре:
— Да
будет Свет!
От
грома-гласа Божия впервые засверкала молния, рассекла беспредельность,
разорвала все ткани мертвой бесконечной пустоты, пронизала все пространства, и
загорелась тьма вселенской ночи, и возжегся вечный блеск животворящего Огня.
И
стал Свет. Оформился Лик Божий, и от очей Его возникли светлые лучи и полетели
стрелами в просторы хаоса, и, как от брошенного в воду камня, бесконечными
кругами-волнами-спиралями, бесчисленными взрывами гроз и полыханий молний
потекли и полетели во все стороны от лица Божия лучи Жизни, и зажглись
бесчисленные солнца. И отступила тьма, сгустилась в тучи, темно-синие с зелено-желтыми
краями, и повисла черными крылами, и обвалами клокочущего пара стала опускаться
в голубые бездны. И раскрылись синие просторы бесконечных глубин и высот, и
свет стал рождать свет.
И
отделился свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И увидел Бог, что
это хорошо.
И
был вечер и было утро — День Первый.
* *
*
Как
убог и жалок человек, когда он не видит и не чувствует непрерывно творящихся
вокруг него бесчисленных чудес Жизни. Если они непостижимы в своем величии, то
тем более они должны усилить зоркость.
Зато
как осмысленна и как радостна жизнь всякого, кто даже в простом цветении
придорожной травинки видит чудо. Он встретит всякое явление в природе улыбкой
изумленья и восторга.
Встань
утром рано и взгляни, как всходит солнце; взгляни как бы в первый раз — и
каждый час, каждую минуту ты увидишь все, тебя окружающее, в чудесном свете
нового понимания. И ты поймешь, как прекрасен свет этого первого дня твоего
внутреннего озарения.
И
день твой будет полон смысла, и закат его станет гимном благодарности.
Господи,
что я пред Тобою!
Росинка,
оставленная на лепестке травы ночным туманом.
Трепещущий
на древе малый листик, который завтра оборвет мимолетный ветерок.
Никем
не слышимый печальный вскрик, исторгнутый сознанием ничтожества дел моих.
Но
это Ты помог мне устремиться к звездам и славо-словить все, Тобою сотворенное и
сущее во Вселенной. Прими дары Тобой наполненного сердца. Внемли гласу
восхищенья моего!
Вот
я дрожу от прохлады белоснежного Твоего дыхания.
Перед
ветрами крыл Твоих сгибается все существо мое.
В
пламени солнечных ласк Твоих опаляется тело мое и иссыхают кости мои. От тишины
таинственного покоя Твоего содрогается душа моя, боящаяся покоя вечного. Перед
порфирою небес Твоих, усыпанною звездами, изнемогает разум мой, подавленный
величием непостижимых тайн Твоих.
О
Господи, что могу прочесть я в звездном Твоем рукописании? Что глас восторга
моего в непостижимом храме извечного Твоего молчания?
И
вот сгибаются колена мои, руки мои простираются к земле, матери моей, и лоб мой
орошает влага ночной росы. Сомкнутыми от безмолвия устами я припадаю к
лепесткам цветов и вижу чудо: в капельке росы отражено сверкание звезд, луны и
дальних солнечных миров.
О
Боже, Боже! Какое ликование в бессилии моем перед лицом вселенских, всетворящих
сил Твоих!
О
капля луговой росы, что под покровом темной ночи выплакали лепестки, тоскующие
о первом утреннем луче. Ты, капля, рожденная в таинстве встречи дневного зноя с
прохладой предрассветных сумерек, даже капелька росы, становишься источником
моего умиления и прообразом великих начал. Ибо если в капле чистой влаги
отразился свет звезды и солнца, если в малой капле замкнута вся глубина
недосягаемо-сверкающих миров, первоисточник чуда и понимания простейших форм
творения, источник чистоты и блеск огня неопалимого, — то что же целый Мир
Твой, Боже? Что же вся Вселенная?
О
глаз человеческий, уронивший первый взор восторга на каплю утренней росы и
увидевший в ней отражение всей Вселенной, — виждь и свидетельствуй все чудеса,
десницею Господней творимые. Ты, взор, увидевший невидимое в таинстве едва
приметной капли и восприявший божественную красоту в цветах и красках радуги, —
тобою Бога узрим! Ты, рука смертного, воплотившая в рукописаниях Книгу Бытия, в
начертаниях на камне сказания о прошлом, в линиях из киновари облики святых, в
звуках струн божественные песнопения, в тимпанах гимны доблести героев, — в
деяниях твоих премудрости Господней приобщаемся…
Ты,
сердце человеческое, пречудный сосуд духа, веры и любви, сердце, сотворившее
незримую стрелу-мечту, пронзающую все пространства тьмы и уносящуюся в
беспредельность к Солнцу Солнц, — тобою с Сердцем Создателя соединяемся, тобою
Господа постигаем…
Ты,
разум человеческий, не знающий пределов для своих воображений, как крыло
невидимое для полетов, во мгновение ока совершаемых, ты — луч вымыслов,
соединяющих земное бытие с вселенской бесконечностью и претворяющих
пространственный эфир в единый мост, соединяющий все мироздания, — в тебе нашим
упованием на жизнь вечную утверждаемся.
Господи,
помоги мне, как птенцу бескрылому, удержаться в гнезде веры моей! Да вырастут и
окрепнут крылья мои для полета по садам премудрости Твоей. Боже, заостри слова
мои для вразумления ненавидящих Тебя. Да не постыжуся вовеки сражаться за дела
Твои и да не престану устремляться на высоты надзвездных таинств Твоих!
Тебе,
Вседержителю, Творцу неба и земли, Создателю Света, огня неугасимого, Творцу
бесчисленных видимых и невидимых миров, Тебе, сотворившему разумеющего человека
— вовеки слава!
Тебе,
человеку, возлюбленному чаду твоего Создателя, сосуду страха Божия —
премудрости начала, тебе, держателю духа, лотосу любви и веры, утвердившему
человеческий род, увенчанный сыном Божиим — вовек благословение!..
* *
*
Да
отольется на пламени сердца моего меч огненный! Да рассечет он узы разума моего
и мозг мой да излучится и наполнится светом, Тобою единожды сотворенным для
всей Вселенной. Да приобщусь навеки к Свету Твоему единосущному и сердце мое да
будет чудом непревзойденным, каплею огня неугасимого, семенем, бросаемым в пространство
Десницею Всемогущего, Всеведущего и Вездесущего творца моего. О капля пламени,
упавшая из горнила Всесоздания, возникай во тьме, пылай, свети и согревай пути
свои. О земное мое око, озарися светом Ока Всевидящего и увиждь невидимое,
неизреченное, неповторимое Творение миров.
И
вы, все шорохи и громы мира видимого, все голоса и вздохи живых созданий, все
завывания мировых ветров, все бушевания бурь, все плески вод, стремящихся в
моря, все стихии волнующихся океанов, все кристаллы льдов, обрушенные горными
высотами, все вскрики радостей и ужасающие вопли страха, все шумы падающих в
бездну разрушаемых планет, все дыхания вселенских туманностей и все зачатия и
полеты планет и звезд, все полыхания бесчисленных вселенских солнц, все
неисчислимые трепетания воскрыленных воинств ангельских, всё и вся от века
сущее, всё бывшее и всё грядущее для бытия, во всем безвремении время, во всей
беспредельности пространство, во всей необъятности свет, во всей таинственности
бытие, — примите в неизреченный хоровод свой малую крупицу моего сердца,
ничтожный свет очей моих, каплю слез моих восторженных молитв, каплю крови
жертвенной любви моей, первый вскрик рождения моего и последний вздох земных
скорбей моих!
Прими,
о Господи, всю радость веры моей и всю скорбь моего безверия и сотвори чудо
откровения неоспоримого: слуху моему дай радость и веселие и разуму моему
смирение. Да услышит мой слух глас надземных гимнов, едиными вселенскими устами
возглашающих:
Слава
в Вышних Богу и на Земли мир и в человецех благоволение! Слава Творцу,
рожденному прежде всех век, Им же вся быша и пребудет во веки веков!
«Не
наша одна земля от скорбей претерпела. На наш народ един муки телесные и
душевные восприял. Но всяческое убо страсти и во все времена — наша отчизна
наипаче всех».
* *
*
«Во
всякой стране, во все времена, с тех пор как уразумели люди добро и зло, —
почитали они свет и разум и старались следовать за самыми добрыми в слове и
деле, за самыми терпеливыми в подвиге».
«Есть
ли такой народ на земле, который не имел бы своих вождей духовных, своих святых
подвижников? А если есть такой народ на земле, то темна и безрадостна судьба
его».
«Но
отчего случилось на Руси такое, больше всех иных земель и государств имели мы
святых подвижников и почти все они были замучены за благо, ими смиренно в житии
творимое? Почти все были гонимы за правду Божию, почти все прияли мученический
венец Христов!»
«Задумаемся
над этим, братие, задумаемся и пересмотрим прошлое без лицеприятия. Воскурим
священное кадило Веры Православной во имя будущих судеб нашей родины и всего
мира, в котором не последнее место занимает отчизна наша с седых времен».
* *
*
«Самая
зимняя из стран, самая студеная и пасмурная дочь Земли — Россия. Увеличенная в
своем пространстве сибирскими полями и лесами, таящими в себе все блага для
грядущих судеб ста племен российских, страна наша полгода под покровом белым,
под снегами чистыми. И прекрасна она в белизне своей, заманчива для всякого
пришельца из других земель, посреди лежит между Востоком и Западом, на пути у
всех веков и у всех народов, на перепутье к Алтаю и к Гималаям, святым горам
всея Земли».
«Это
единственная страна, которая от древлих времен в своих богослужебных возгласах
зовет молиться «о мире всего Мира». Но почему же из благого устремления получилось
столько зла, Вавилонское разногласие и столпотворение? Оставим суд над
виноватыми! Ибо трудно доказать вину всего народа, да и кто может взять на себя
смелость судить двести миллионов народа?»
«Из
всех виновных первый есмь аз. Как смел я кого-либо судить, когда я первый
уклонился из бесчисленного сонма мытарей, когда судили и казнили мытарей? Как
смел я судить неправых воинов, когда я первый бросил меч на поле брани? Как
смею я судить преступника, если я не помог ему избежать преступления и не знаю,
какие пути привели его к судьбе его?»
«Итак,
не для суда, но для рассуждения соберем наш разум, соберем наши сердца и в мире
и доверии к суждению каждого задумаемся над судьбою всех нас вместе и над
поступками каждого в отдельности. Если же судьба всех нас вместе не под силу
нашему разумению и если каждый из нас не осмелится раскрыть свои деяния перед
всеми, — то хоть поищем мы в судьбе минувшего таких достойных обликов, которые
бы помогли нам отыскать потерянный нами путь к очищению и оздоровлению жизни.
Задумаемся, братие, по чистой совести».
* *
*
«Дует
над заснеженной Русью ветер, гонит мелкий снежный песок. Дымится вся земля в
поле, засугроблен лес, погребены бесчисленные села и деревни. Дымится вся
Россия под серебряным дыханием бегущих белой чередою зим. И так от века и до
века — целые столетия. Когда-то пригреет весна, когда-то приласкает солнышко, а
люд честной трудом своим и телом согревает всю ее, Россию необъятную. Люд
честной, трудящийся, непрерывно продолжает строить ее, бережет ее заветы, создает
ее святыни. Кто же он и где он? Каков же лик его, строителя, каково же слово и
дело его и в чем они остались-закрепились? И чем живы люди, во имя чего
перенесли через тысячелетия всю скорбь и всю радость? Как и почему случилось,
что не умерла легенда о человеке праведном, о том самом человеке, который
нежданно-негаданно сам, по доброй своей воле, молился и о страждущих в путях, и
о сущих в море далече? Чей богатырский труд поднял всю неисчислимую каменную
тяжесть выстроенных благолепных храмов, и монастырей, и городов, и острогов, и
крепостей, и прекрасных белокаменных столиц? Рассудите, людие, поразмыслите по
чистой совести, без принуждения, без споров и перекосердия: какая же была та
сила, которая вела Россию к ее теперешнему состоянию — злая или добрая? Если
злая, то зачем вы ею вооружаетесь — для каких добрых намерений? Если благо вы
творите, то не лучше ли ту силу, как энергию, включить для усиления блага
вашего? Никогда еще деревья не росли в землю, но только из земли и вниз
корнями. Никогда не покупалось благо злодеянием. И горе тому саду, который
полит кровью и посыпан пеплом — для всех поднявших меч на брата это
сказано…».
* *
*
«Испокон
веков повелось на Руси о всяком благе благую весть народу посылать. И
посылалась весть такая больше в колокольном звоне, в благовесте, достигавшем
дальних полей, где труженик-пахарь или пастух могли слышать и молиться в
положенный час. Даже в погибельную снежную метель слали колокола свои звоны и
призывы, чтобы заблудившиеся путники шли бы на голос колокольный и спасали бы
себя от беспокаянной смерти. И идут эти зовы колокольные издревле, несут
сказ-былину о временах, о былых скорбях и о былых радостях — связывают прошлое
с будущим, указуют на непрерывность жизни человеческой. И все поэты мира, все
слагающие песни и божественные звуки музыки слушали те зовы колокольные,
учились у них думу свою думать, полагали звуки их на музыку, и в песни, и в
лучшие строительства грядущего. Ибо в металле колокола сама земля поет. И ничто
не пробуждало так человеческую совесть в темный, страшный час ночного
искушения, как колокольный звон. Но откуда и когда и в чьей отчаянной душе
могла возникнуть мысль об умерщвлении в мире звона колокольного? Чья страшная
совесть могла восстать против красоты тысячелетий? Какой на себе страшный и
незамолимый грех несет вся Русь, если не выносит зова о всеобщем благе!»
«А
снежная метелица метет, метет. Все так же по земле звериные и человечьи следы
заметает. И так — столетия: единый белый снег неизменен и верен Русской земле.
И перестоит он все неправды, переспорит кривду, сбережет какие-то скиты в
глухих лесах, сделает недоступными пути к святым отшельникам, а те отшельники
замолят все грехи Руси великой, мир-ской богомолицы, всемирного страдальца
Народа Русского».
На
далеком Севере, где лето было коротко, но обильно цветами и травами, между
крутых, покрытых густыми лесами берегов, протекала река. Не широкая и не
глубокая, но задумчивая и прозрачная, шла она широкими извилинами, точно кто-то
Великий начертал ее на земле как голубой узор по зеленому ковру лугов и лесов.
Не
было вокруг поблизости ни городов, ни деревень. Только кое-где над зеленой
кручей повисла узкая колеистая дорога, ведшая к далекому монастырю, к
Троице-Сергиевой Лавре.
Однажды
рано утром на извилинах дороги показались два странника. Они были в белых
холщовых рубашках, с нищенскими сумками через плечо и с самодельными бандурами
через другое.
Один
был тонкий, прямой и высокий, и длинная борода его от легкого ветерка струилась
в сторону. Его бандура в такт шагов покачивалась у бедра и шептала что-то
одинаково похожее на грустное и на смешное. Опираясь на суковатый,
залоснившийся от долгого пути костыль, старик умело и привычно впереди себя
нащупывал дорогу.
Другой
был молод, с целомудренным белокурым пушком на подбородке и с желтыми, давно не
стриженными волосами, свисавшими до плеч. Этот шел без костыля, был невысок и
гибок, точно девушка, и его поступь была легкая, как будто он не шел, а плыл,
легко скользя по мягкой розовой земле дороги. От лаптей их не оставалось
никаких следов. Густая трава грядок прятала их, как зеленая вода.
Головы
их были непокрыты, и на загорелых, высветленных солнцем и ветрах лицах играла
та безмолвная улыбка, которая присуща только слепым, когда они без слов
беседуют с разлитой вокруг благоухающею тишиной и перекинутыми из-за леса
первыми лучами восхода.
Шли
они не в ногу, потому что молодой чуть-чуть отставал и по походке старшего
угадывал свой путь и соразмерял шаги. Если бы они шли в ногу, то следовало бы
держаться крепко друг за друга, иначе без поводыря нельзя идти неведомой
дорогой.
Скоро
старший почуял тот особый, чуть прохладный аромат, который посылает от себя
река.
— Ну
вот, тут скоро будем отдыхать у речки.
Молодой
спросил:
— А
ты когда-нито бывал тута?
—
Бывал, — ответил старый и, вздохнув глубоко, поднял к небу голубые, ничего не
видящие широко раскрытые глаза. — Давно то было, почитай, што эдак в твои годы.
Тебе сколько?
— Не
знаю. Не считал, — ответил молодой.
Он
шагнул скорее, чтобы ближе быть от старшего, и, повернув смеющееся лицо в его
сторону, еще спросил:
— А
ты тогда видел?
—
Ви-идел!.. — как иволга весною, с песенной грустью протянул старик. — Уже
вдолге после сорока годов Господь лишил меня света.
— А
што же ты тут видел? — не унимался молодой, никогда не видевший реки и леса,
потому что оспа унесла его глаза у годовалого.
—
Много грешного успел я повидать, родимый… — отвечал старик уклончиво, потому
что вовремя сообразил, как будет больно слышать молодому про хорошее, что сам
он в молодости испытал и видел и чего не мог увидеть его молодой спутник.
Старик
не видел, как окрасились в лучах восхода облака, но он знал об этом по тому,
как в нем ликовала и переливалась кровь. Он зашагал по колеям смелее, потому
что каждый шаг здесь был им пройден много раз. В этих местах, на этом именно
подходе к реке он некогда давно увидел и познал свои первые стыдливые радости.
Он
еще светлее улыбнулся, направляясь вдоль реки.
—
Тут вот где-ето направо, помню, в косогоре камень будет… Огромный камень у
дороги… Там и отдохнем… Из-под камня родничок бежит. Сухариков с водичкой
погрызем… Да… Хорошо тут было… С камня с этого было кругом далеко видно
реку и леса и горы…
Хотелось
ему рассказать и то, что было некогда на этом камне, но не решился. Жалко было
молодого, никогда не знавшего услады жизни. Но молодой почуял. Он услышал в
голосе старика особую робкую и мягкую бережливость, и бережливость эта была так
заманчива, так захотелось узнать от старика все то, что так заботливо он
бережет. Однако робость старика была такой стыдливой, что передалась и
молодому, и молодой не смел спросить.
Уже
старик замедлил шаг. Уже обвел вокруг себя широкий круг костылем… Но конец
костыля запутался в ветвях кустарника, потом ударился в ствол молодой березки.
У старика улыбка перешла в испуг.
—
Што ж это? Неужели я ошибся, не туда пришел… — И, протянувши руки с костылем,
он им задел спутника, и оба замерли на месте.
—
Слышишь, ручеек где-то журчит, — вдруг светло сказал старик. — Значит, тут!..
Тот самый родничок — голос его тот же… — И он опять еще смелей шагнул к тому
месту, где был камень, и снова натолкнулся на кусты. Роняя с них росу, он обнял
их и костылем проткнул их гущу. Конец костыля ударился о камень. — А-а, во-от
он, — с детскою улыбкой протянул старик. — Зарос кустами как… Лет тридцать не
бывал я тута… — И он с широкою улыбкой стал ощупывать руками каждый куст и
камень. Капли росы обильно осыпались ему на белую седину головы, на шею и на
плечи, будто кто-то плакал над ним радостными давними слезами.
Вот
он нашел заросший мохом и травой знакомый уступ, встал на него, привычным
движением нащупал следующий и осторожно сел на ровный уступ камня.
Молодой
стоял внизу под тенью свесившихся густолиственных берез и улыбался.
— Ну
вот… Иди сюда, — сказал старик, ощупывая костылем пространство, и дивился,
что костыль всюду сталкивался со стволами молодых березок и с каждой березки на
него летели мелкие росинки.
Молодой
пошел на голос, медленно ощупывал каждый шаг и прикрывал от росы свою бандуру.
Когда
они уселись рядом, с дороги их в кустах было совсем не видно. И в тишине утра
странно прозвучала невзначай задетая березовою веткой струна на бандуре
старика. Он снял ее с плеча, нащупал место на березке и повесил. То же сделал
молодой.
Старик
достал из холщового мешка деревянную, выточенную из корня, черную от времени
чашку и, нащупав плечо спутника, сказал:
—
Давай свою — я за водой схожу. Ты дороги не знаешь.
Молодой
с улыбкою достал и подал свою чашку и молча ждал, прислушиваясь, как по камню
вниз зашелестели ветки и шаги и как внизу старик сказал:
— И
родничок зарос как… Давным-давно, видать, тут люди не ходили…
Когда
же он вернулся, они оба медленно в молчании перекрестились и священнодейственно
стали есть сборные обкрошенные сухари, Христа ради поданные им в попутных
селах. И, запивая осторожными, благоговейными глотками, держали головы
приподнятыми кверху.
И
снова пробежала светлая улыбка по лицу седого. Он соблазнился памятью о давних
днях на этом камне, позабыл о спутнике и будто для себя сказал:
—
Давно ли, кажись, было. Вот так же вот сидел я тута с девкой… Лазоревеньких
на лужку там много нарвала и в косы свои заплела… А потом-ка подшиблась и
запела песню такову печальную. Сирота была она. Бесприданная…
Широко
улыбнулся, но молчал, даже затаил дыханье молодой слепец. Только тонкая струна
его бандуры чуть запела. Овод сел на нее невзначай… И старый оборвал
рассказ…
Только
после долгого молчания молодой отважился спросить:
— Ну
и как же?.. Где ж теперь она?
Молодой
слепец спросил так, как будто девушка сидела здесь вчера, — так чиста была еще
душа его. Старик же громко ухмыльнулся.
— С
тех пор прошло уж тридцать лет, — эпически-напевно отвечал он, — а прожил с нею
я, невенчанной, около года. Родители мои были славутные, богатые… Жениться не
до-зволяли на беспризорной сироте… Ребеночка, сыночка родила… Слыхал,
куда-то в люди отдала, да и ушла свой грех замаливать в обитель. Много лет
ходил я по обителям, прости меня, Господи, хотел все повстречать… Упасть бы в
ноги, вымолить прощенье… Да не привелось найти… Жива ли где али
преставилась, — не знаю… Много исходил я по земле, много истоптал травы
зеленой… Бывало, вот сюда приду на камень, песню ту ее печальную спою,
заплачу… Вот только и выплакал у Бога милости — нашел Он меня наказаньем,
свет мой отнял… Слава Господу Всевышнему!..
Старик
глядел глазами в голубое небо, улыбался, и в слепой его улыбке светлыми
росинками блестели старческие слезы.
Молодой
после молчания опять спросил:
—
Какую же песню она пела?
Старик
ответил новым, тихим, но суровым голосом:
—
Будя! Грешно это… Жива ли, аль скончалась — пускай со Господом душа ее
покоится… — И, взявшись за свою бандуру, задержал дыханье, как будто
колебался: не вспомнить ли, не пропеть ли про давно минувшее, не сложить ли
новую былину? Но подавил в себе соблазн и попросил: — Давай споем молитву,
Господа прославим!
И
сложенный за много лет, сыгранный и спетый, полился молитвенный стих.
Невидимо
звучали голоса и струны на заросшем камне среди кудрявых берез, и слушали
вершины стройных елей-монашек, и тихо кивали острыми клобуками своих верхушек.
Кверху,
немного в сторону, держал лицо свое старый слепец, отчего его большая борода
все время развевалась по левому плечу. Низко наклонялся одним ухом над струнами
молодой, точно в звуках их хотел услышать самое тайное, самое печальное и самое
радостное, что не удалось и никогда не удастся узнать ему.
С
дребезгом и басовито пели струны старика, и руки его жилистые, с серебряною
мелкой сединой на пальцах, бегали по струнам широко и жадно.
Жалобно
и с подвываньем пела бандура молодого, и пальцы его, нежные, как у девушки,
ласково и робко плавали по струнам, точно колдовали, точно ткали нежные узоры
песенного лада.
С легкой хрипотою старческой молитвы, с жалобою
покаянья звучал старый басовитый голос:
А
и много у Господа милости,
А
и много у Господа жалости
Да
и ко сиротам бедным
в Пресветлом Краю…
С нежной чистотою, с удивлением детского неведения
лился юношеский, точно женский, голос молодого:
А
и нету у Господа злой нищеты,
А и нету у Господа беды-слепоты.
И сливались голоса их снова, как будто пели леса, и
горы, и реки, и ветер вместе:
А
и все то ли тамотко равные,
А
и все ли тамотко радуются.
А
и Край тот под вечною радугою,
Край Пресветлый, Пречистая Радуница.
У
старого по волосатой щеке скользнула слеза, но голубизна слепых очей сверкала
радостью.
Лицо
молодого стало светло и прозрачно, чуть порозовело от восторга и усердия.
Он
даже позабыл, что музыкой и пением услаждает свое сердце в последний раз. Скоро
они достигнут врат заветного монастыря. Там юный слепец укроет свои соломенные
кудри темным монашеским клобуком до веку.
И как будто еще больше восторгаясь перед светлой
жертвою, голос молодого с особенной певучей нежностью звучал:
А
и всем то ли тамотко люб Господь,
А и всем брат-отец — Сам Иисус
Христос.
Мирно,
любовно кивали в такт пения ветки молодых берез. Под шелест их ткала свою
древнюю быль зеленая лесная дремь.
* *
*
Внезапно
оборвал игру и пенье молодой, и голос его робко дрогнул:
— А
не Ненилой ли звали ее?
Голос
старика упал, и струны на его бандуре прозвучали долгой и затихающей печалью.
Но он не сказал ни слова, только рот его открылся и глаза часто мигали.
—
Слыхал я о судьбе ее от восприемников… Все подходит, как ты сказываешь…
Мать она была мне… И правда, где-ето в монастыре преставилась. — И потянулись
задрожавшие руки слепых друг к другу… И трепетно в молчании обнял сын отца и
отец сына.
Небо
было голубое и глубоко-молчаливое. Яркая зелень цветущих трав и густых лесов
радостно простирала к солнцу свои весенние стебли, листья и хвои, и кадила в
плачущие лица странников благоуханием.
Старец
читает негромко, как бы для себя, но внятно и молитвенно:
—
Всесвятая Троица, единосущная державо, нераздельное царство, всех благих вина,
благоволи же и о мне, грешном, утверди, вразуми сердце мое и всю мою отыми
скверну, просвети мою вину, славлю, пою, и поклоняюся, и глаголю: един Свят,
един Господь, Иисус Христос во славу Бога Отца, аминь.
Лица
старца не видно: он стоит на клиросе согбенною спиной к молящимся, но видны его
седые волосы, часть бороды и котомка за плечами. Молящихся в полутемной
церквице всего несколько солдат, две старушки да девочка лет семи, в платочке,
в сермяжной белой куртке с большого роста и в растоптанных больших лаптях. Она
большими глазами рассматривает под куполом летящего над звездами
Господа-Саваофа и, видно, недоумевает или ужасается.
Позади
всех, у самого входа, как бы не решаясь войти в церковь, стоит военный, молодой
человек лет тридцати, русский офицер. Он вошел в церковь случайно, мимоходом. Его
привлекла своей наружностью деревянная церковка, точно кружевная, украшенная
узорчатой резьбой по дереву. Эти кружева были повсюду: под крышей, на карнизах,
вокруг дверей и окон, на воротах и по всей обегающей ограде.
Церковка
напоминала офицеру его родной далекий север. Отыскивая свою часть и проезжая
мимо, он заметил открытые двери, а через них мерцающие свечи перед алтарем, и
вот он спешился, привязал коня к углу церковной ограды и вошел в церковь
случайно, почти из любопытства.
—
Благословлю Господа во всякое время, выну хвала Его во устех моих, — внятно и
спокойно читает старец с котомкой за плечами, тоже, видно, случайный прохожий,
может быть, священник, попавший в волну отступления.
Здесь
пронеслись армии Австрийская и Русская великим пламенным приливом и отливом, и
вся деревня уже наполовину разрушена и опустошена, а эта церковка, как
счастливый островок, каким-то чудом сохранилась, и даже цело все убранство в
ней, иконостас, подсвечники, иконы, книги. Но откуда эта девочка в лаптях? Ведь
лапти эти не галицийские, а великорусские.
Пока
думал об отступлении, которое уже остановилось на этой линии, о девочке и о
страннике с котомкой, пропустил несколько строчек псалма и спохватился, как
будто что-то редкое и ценное потерял. И снова стал внимательно слушать, даже
продвинулся вперед от входа.
—
Приступите к Нему и просветитеся и лица ваши не постыдятся. Сей нищий воззва и
Господь услыша и от всех скорбей спасе и…
Ведь
это — про таких, как он, грешный, случайно пришедший в эту церковку. Разве он
не из тех, чьи лица стыдятся показать свою приверженность к вере отцов своих?..
«Вот
оно как, — роились мысли в голове офицера, — даже все святые должны бояться
Господа, а что же мы, безбожные, забывшие даже все детские молитвы, стыдящиеся
как следует молиться даже на общей вечерней солдатской молитве?..»
—
Богатии обнищаша и взалкавша; взыскающие же Господа не лишатся всякого блага…
* *
*
Когда
вышел из церкви, то не надел фуражку, склонивши голову, ушел куда-то мимо своей
лошади и, точно во сне, увидел на себе шинель и шашку у бедра и слышал
позванивание шпор. Услышанные слова вошли в его сердце навсегда и поразили его
своей всепокоряющею, ясной простотой и необъяснимой истиною мирности и
покорности всему, что совершается вокруг.
* *
*
Потом
на некоторое время все забылось, стерлось из памяти. Поход и бои, забота о
солдатах, о себе, о близких в глубоком тылу, переписка с избранною сердца — все
это загородило и затмило случайно вспыхнувший в душе его священный огонек.
Но
вот в январе 1918 года в Киеве, когда переодетые матросами немецкие наемники и
обезумевшие русские солдаты хватали и убивали прямо на улицах тысячи русских
офицеров, грубая и страшная рука нащупала под его шинелью офицерские отличия и
поволокла его к месту расстрела — в нем невольно, с отчетливостью яви,
воскресли позабытые и только раз услышанные в галицийской церковке слова:
«Блажен
муж, иже уповает нань…»
Потому
ли, что лицо его в эту минуту озарилось не подходящею к случаю улыбкой или
потому, что он так покорно и бесстрашно шел перед матросами, — матрос по дороге
вырвал у него хранившиеся под подкладкой обшлагов погоны и, выругавшись
тяжелыми словами, толкнул его в один из переулков и сказал:
—
Иди, блаженненький! Да выбрось все, чего у те там есть еще. Не попадись!..
—
Блаженненький! — с усмешкою шептал офицер и поражался не столько чуду спасенья,
сколько тому, что матрос в точности, хоть и своими словами, повторил его
молитву:
«Блажен
муж, иже уповает нань…»
С
тех пор все было уже не случайно, а предопределено.
Все
пламя смутных лет пронеслось над этим офицером неопалимо. Все бурные реки крови
и скорбей не смогли затопить и погасить все разгоравшийся чудесный огонек,
случайно зажженный в покинутой всеми сельской церковке.
Не
случайно попалась на глаза русскому воину, одетому уже в рабочую блузу,
небольшая книжечка академика В.О. Ключевского — с простым названием
«Преподобный Сергий Радонежский». Уже все, что касалось этого подвижника,
неудержимо тянуло к себе: вот отрок Варфоломей на лесной поляне перед схимником
— картина художника Нестерова. Вот ряд картин академика Рериха: Сергий юношей
вступает во врата Хотьковского монастыря; Сергий строит первую свою келию —
будущую твердыню русской славы Троице-Сергиеву Лавру; Сергий в лесу, а у ног
Его мирно лежит гроза русских дебрей,
медведь…
Не
случайно совершается и уход русского воина в чужие страны, когда в родной
стране поруганы святыни. Теперь он сам стал скромным и безвестным странником.
Безвестным потому, что принял имя новое, принял подвиг монашества и стал
вооружать свой дух новыми неуязвимыми доспехами, чтобы силой нового
непобедимого оружия — силою молитвы, силою разума и сердца, силою борьбы со
злом и тьмою — помочь Земле Родной, которая в течение тысячи лет была великой и
святой обителью многих святых и преподобных праведников Русской Земли, среди
которых незакатным солнцем светит Радонежский Чудотворец, Преподобный Сергий.
«Земля
ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают
чужие; все опустело, как после разорения чужими».
Так
говорил пророк Исайя еще в глубокой древности, а между тем слова эти свежи для
нас и как будто к нам относятся. Но не чужими, а своими руками содеяли мы
разорение родной земли.
Ибо
сами своею волей или своим безволием, своею немощью угашаем мы свет истинного
бытия своего, свет веры и надежды и любви. И кому же, как не нам, опять
приходится искать потерянное и, как заблудившимся во тьме пустыни, испытывать
смертельную жажду Истины и в тоске искать нами же угашенные путеводные огни!
Мы
часто воображаем себя победителями, когда мы уже побеждены. Где же победа наша?
Где оружие наше и где щиты наши?..
Отрицая
свет незримый Духа, мы тем самым сами себя ослепляем, сами в себе отрицаем
чувства, память, мысли, надежду, веру и любовь. И потому страх смерти никогда
не покидает нас, ибо мы боимся истинного света вечной жизни, как совы и летучие
мыши боятся солнечного сияния.
И не
нам ли, как первобытным людям, надлежит познавать о существующей научно
доказуемой и определенно доброй силе, именуемой Добром, Любовью, Богом! Не нам
ли в наше злое время следует особенно настойчиво поставить на очередь вопрос о
значении света, самого обыкновенного физического света, идущего от солнца и от
огня?
Как
трудно и даже рискованно говорить теперь о вере, о религии, о Боге, потому что
среди многочисленных теперь безбожников это вызывает лишь обратные удары. И не
будем мы искать действительно виновных среди тех, кто не только продолжает свое
бытие, но и зачатие свое получил во тьме невежества и впопыхах взаимной
озлобленности. И род преступников умножился.
Там,
где преступная рука ищет способов для разрушения, — опасно даже и лампаду
возжигать перед самым кротким ликом Богоматери. И от лампады черная рука может
взять огонь для разрушительных пожаров. И выйдет, что самое кроткое — родит
самое жестокое. Значит, и хранитель и носитель света в наше время не избавлен
от средневекового гонения. А потому мы просто побеседуем о самом свете, об
уменье обращаться с ним, о сбережении его от угасителей.
Вот
случай угашения света как угашенья самой простой житейской радости.
В
полуночи по темной сельской уличке идет молодая девушка. Несет от всенощной, от
Великого Четверга, зажженную свечу. Ее тонкие руки, бережно сохраняющие огонь,
как лепестки розы, прозрачно светятся. Ее лицо в свете светильника прекрасно и
от внутреннего света еще не понятых таинств жизни, и от игры внешнего огня,
освещающего юные черты лица. В этот момент она собою представляла самый яркий
символ жизни, озаренный светом.
Но
вот навстречу ей толпа веселых молодых людей. Конечно, самый бойкий, самый
веселый — шутник и забавник. Он подбегает к девушке.
—
Гражданочка, дозвольте прикурить!..
Остановилась,
из ладоней сделала фонарик. Губы чуточку вздрогнули, дыхание задержалось. Но в
глазах улыбка и мольба. Неужели оскорбят ее священный свет? Быстро окружили и,
заглядывая в растерянно улыбавшиеся глаза, поочередно наклонились с папиросами
и пыхали в лицо ей едким дымом. И каждому держала свечку, не смела отказать.
Правильно или неправильно поступила — не успела разобраться. Пусть накажет Бог,
если неправильно, но никому не отказала.
Закурили
почти все. И вот последний подошел, кощунственно выругался и со злобой дунул на
розовый фонарик из тонких девичьих рук… И погас свет. Но вместе с ним погас и
ее взгляд, погасло все лицо, смешалось с тьмой. А в темноте звучал удалявшийся
довольный смех…
Хоть
когда-нибудь, хоть кто-нибудь из них вспомнит ли, поймет ли, что в ту весеннюю
ночь их молодости был погашен ими не только свет огня и неба — огонь священный,
но и блеск юных девических глаз, но и розовый фонарик рук ее и что для всех их
была погашена вся ра-достная теплота земной красоты. И также может ли кто-либо
бросить камень в ту девушку, если угасшая ее улыбка обратится в гримасу
ненависти к угасающим свет?
Так
вместе с радостью света угашается и сама жизнь.
Но
свет во тьме светит. Свет физический, в огне и в солнце и свет далеких звезд,
свидетелей неоспоримого бытия иных, запредельных миров, созданных и управляемых
Единою Разумною Волею. Тот свет погасить не в силах даже тьма всей преисподней.
Светит
свет и в людях, только осторожнее — не угашайте. Светит свет неугасимый даже
через мрак столетий от деяний праведных людей, когда-то живших и творивших
благо. Творилось это благо и на Святой Руси. И многие российские подвижники
получили вечное, неистребимое бытие свое лишь после так называемой смерти. Ибо
знали они истину о бессмертии благих деяний: «действие благое — оплот души».
Они умели возжигать свет Истины, умели держать и проносить его во тьму
невежества и стали светочами жизни неугасимыми.
Одним
из таких бессмертных в мире, незримо-витающих и творящих благое светочей
является подвижник Радонежский, Преподобный Сергий.
Но
здесь должен смутиться дух всякого мирянина, дерзающего описывать или даже
вообразить Облик Преподобного.
Даже
само слово «преподобный» указует на особый иконописный способ описания, которым
только и достойно говорить об этом человеческом и в то же время
сверхчеловеческом образе духовного Учителя и строителя России, о котором еще в
14-ом веке сказано:
«Радуйся,
духа святаго Обитель.
Радуйся
святыням чистое и непорочное жилище».
Найдутся
люди, скажут: «Дряхлый и елейный язык». Но разве можно бормотанием или
смешанным наречием святую старину, историческую быль рассказывать? Только тем
же древнекнижным языком, только тем же иконописным способом возможно дать хоть
некоторое представление о том, что было шестьсот лет тому назад. С каким
благоговением должен всякий прикасаться к сохранившимся преданиям, а тем более
к следам человеческого подвига. Надо представить, какая была жизнь тогда. Ведь
это было так давно, когда еще не было России. Русь, полоненная татарами, была
еще лесная, полуразбойничья, темная, смешанная с остатками полудиких Финнов,
Веси и так называемой Чуди. Киевская Русь тогда уже падала и отцветала, а в
бездорожных и безвестных пространствах теперешней России враждовали меж собой
удельные князья. Будущее нашей родины было темно, и могло его, этого будущего,
совсем не быть, если бы не Преподобный Сергий.
С каким благоговением, с какой любовью должны мы, «и
пыль веков от хартий отряхнув, правдивые сказания» о Нем переписать!.. И как
уместно приступить к описанию самого облика Св. Сергия со словами величайшего
национального поэта и родоначальника новейшей русской литературы А.С. Пушкина:
Да
ведают потомки православных
Земли
родной минувшую судьбу,
Своих
царей великих поминают
За
их труды, за славу, за добро,
А за
грехи, за темные деянья
Спасителя
смиренно умоляют…
«Бысть
же сие путное шествие печальное и унылое… Нигде бо видети человека, точию
пустыни велиа, и зверей множества…»
Так
говорит летописец о больших пространствах России 13-го века, опустошенной
непрерывными нашествиями, насилиями, грабежами и убийствами татар.
«Великому
граду Владимиру уже взяту бышу, в нем же все православное Христианство избиену
быша и по различным стражем и землям расточена быша… Начаша дань даяти, елико
хотят погании…»
Вот
такое это было время.
Москва
в самом конце 13-го века считалась самым малым уделом и потому досталась во
владение великого князя Даниила Александровича, младшего сына Св. Александра
Невского. Каких-либо 150 лет до этого Москвы как города еще не существовало,
ибо еще в 1147 году это была только усадьба опального боярина Кучки, а как
город Москва заложена в 1156 году. Великий князь Даниил за доброту свою только в
1302 году, перед самой смертью, получил от своего племянника Ивана Дмитриевича
целое Переяславльское княжество и тем немного увеличил свой Московский удел.
Но
14-ый век ознаменовался самыми ужасными распрями удельных князей, и все это
сопровождалось постоянными их поездками в Орду, к владевшим в то время нашей
родиной татарским ханам за ярлыками (грамотами) на то или иное княжение, и
каждый из удельных князей добивался у хана ярлыка на великое княжение всякими
правдами и неправдами. Всякими хитростями, доносами, подкупами, вероломствами,
предательством и даже братоубийствами домогались князья этого великого
княжения, и получение ярлыка почти всегда сопровождалось новыми кровопролитными
междоусобицами русских князей, так как обиженными оказывались все не получившие
ярлыка, а страдал и кровь лил и разорялся главным образом рядовой, служилый,
простой, пашенный и торговый люд.
После
смерти Даниила в 1302 году умер и последний сын Св. Александра Невского Андрей
(в 1304 году), и вот из-за великого княжения началась жестокая борьба между
двумя соседними уделами: Тверью и Москвой. Тверь одно время уже именовалась
великокняжеской столицею. Впрочем, в те времена и Владимирское, и Новгородское,
и Суздальское, и Рязанское и многие другие уделы именовали себя великокняжескими,
и много братской крови было пролито, пока судьба указала особый, чисто
церковный путь объединения всех уделов под началом Москвы. Москва вскоре
сосредоточила на себе все взоры народа главным образом потому, что туда
переселился из разоренного татарами Киева митрополит Петр, тот самый, по
завещанию которого в 1326-28 годах Иван Калита построил Успенский Собор в
Кремле, и ныне еще нерушимый…
«Того
же лета (21 Ноября 1324 года) князь Димитрий Михайлович Тверской, внук
Ярославль, уби во Орде князя Юрья Даниловича Московскаго».
Значит,
кровавая братоубийственная вражда между князьями продолжалась в угоду Ординским
ханам и на их глазах спустя двадцать с лишком лет после смерти Даниила
Александровича. Князь Юрий, внук Александра Невского, убит был своим племянником
за то, что по его проискам в Орде же был замучен и убит князь Михаил Тверской,
родной племянник Александра Невского.
Все
эти и подобные им тягчайшие убийства, помогавшие татарским ханам еще более
усиливать свою власть и террор над Русскою землей, происходили как раз в ту
черную пору татарщины, когда хан намеревался управлять Россией не заочно, не
издалека, а непосредственно, посадивши своих мурз в русских столицах вместо
русских князей.
В
этот-то страшный период на Руси 3 Мая 1314 года в городе Ростове Великом
родился будущий светильник и избавитель Руси от татарского ига, в младенчестве
и отрочестве Варфоломей, сын боярина Кирилла Ростовского.
Никто
того не знал и не угадывал, какой великий час истории пробил не только над
судьбою Русской Государственности, но и над судьбами всего христианского и
духотворческого мира.
ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО ВАРФОЛОМЕЯ
Так
хотелось бы проникнуть быстролетной мыслью через великое пространство и через
долгие времена, через толщу шестисот с лишком лет, в ту самую боярскую усадьбу
в городе Ростове, где в цветущую пору весны 1314 года родился младенец
Варфоломей.
Боярин
тех времен Кирилл, занимавшийся хлебопашеством, не отличался, видимо,
богатством, и жена его Мария не была избалованной знатной боярыней.
Самый
город Ростов Великий был, вероятно, чем-то вроде большого зажиточного
сибирского села, окруженного пашнями, покосами, лесными дубравами, простором
еще девственной тогдашней вольности, колеистыми проселочными дорогами… Как
хотелось бы представить себе деревянный дом-хоромину боярина Кирилла, его
обширный двор, амбары, паутину жердяных изгородей и поскотин. Куры на дворе,
петушиное пение в полночь и перед утром, и потом на заборе в солнечном свете
дня взмахи его крыльев. Трава-мурава вокруг и какое-то хозяйство: коровы,
лошади, сохи и бороны на дворе — боярин только что отсеялся, может быть, только
что подсолнухи да коноплю последними заборонил… А тут уж скоро Вешний Никола,
надо на телеге съездить поглядеть на всходы… Всюду нужен свой догляд, сыны —
два мальчика Стефан и Петр — еще только подростки, на них полагаться рано, а
работника пошли, да за ним же и иди…
Было
ли это так или как-то иначе, но так ясно представляется тот быт близким к
недавнему крестьянскому зажиточному быту, однако полному забот и трудов, богатому
молитвами да упованьями на Бога.
Ведь
все было под страхом, не спокойно и не мирно.
Все
было под Богом. Каждый день и достоянию, и самой жизни боярина угрожала
опасность какого-либо изуверского татарского набега, непосильной дани-пошлины
или откупа от полонения, от увоза жены или детей… Всюду рыскали они и целыми
ордами, и отдельными группами. Их была власть и воля, они хозяйствовали над неоглядными
просторами тогдашней Московской и Киевской, и Новгородской, и Суздальской, и
Пермской, и Рязанской, и Муромской Руси.
Нужна
была во всем одна-единственная крепость и защита — Воля Божия и кроткое на Него
упование, постоянно озаренное усердною молитвою. Отсюда и весь уклад в семье
боярина Кирилла кроткий и благочестивый, полный мира и труда, но отягченный недостатками
и от непосильных податей татарам, и от прочих жизненных тягот людей, живущих
трудами земледелия в тогдашней подъяремной Руси.
Это
было время, когда действительно вера в Бога и в Его неисповедимые пути должна
была быть единственным спасением, но когда влияние татарщины расшатывало эту
веру настолько, что даже среди князей говаривали: «Зачем Богу молиться, лучше
татарину поклониться».
И
только в наиболее благочестивых семьях вводился как бы монастырский устав
жизни: повиновение старшим, молчаливое терпение, общая молитва утром, перед
пищей, вечером, а для стариков даже и полунощная. Обязательное хождение на все
богослужения, обязательное постничество и соблюдение всех правил благочестия.
Была
в этих качествах та простота и красота, которою держалась все те далекие
времена вся самобытная духовность русской жизни. Мир в семье, лад с домашними,
уважение соседей, подражание младших старшим — все это держалось именно
добровольным подчинением патриархальному укладу в доме. В семье же боярина
Кирилла была та особенность, что отрок Варфоломей был от рождения предназначен
для служения Богу. Потому что был об этом знак: еще будучи во чреве матери, он
во время литургии в церкви громко трижды возгласил, так что слышали и смутились
все молившиеся. И еще был знак, когда он был еще во чреве матери: не могла она
принимать совсем пищи в постные дни. А когда он родился, то и сам, будучи
малюткой, во все постные дни совсем не хотел кушать. Но вот когда подрос и
когда родители отдали его в школу, не давалась ему грамота.
«Учитель
же его со многим прилежанием учаще его, но отрок не точен был… Много
браним бываше от родителю своего, более
же от учителя томим… Отрок же часто со слезами моляшеся Богу…»
Как
это просто и легко представить страдающего от школьной мудрости малютку,
который даже от благочестивого родителя «браним бываше», «более же от учителя
томим» и который тайно со слезами молился Богу, чтобы понять и «точным быть».
Только
ныне можем уразумевать, какой и в этом случае был великий промысл Божий.
Был
бы «точен в науках», вероятно, был бы рядовым боярином, служилым человеком,
может быть, простым священником. Быть может, именно по неспособности к грамоте,
Варфоломей был оставлен при хозяйстве и часто должен был проводить время в
одиночестве в лесу и в поле. Но, разумеется, не мог он примириться с тем, что
не способен читать Слово Божие. Когда оставался один в поле, он молился как
взрослый, прося Бога простить его в его грехах и даровать ему способность в
грамоте. А какие у него могли быть еще грехи? Так, однажды, разыскивая
потерявшуюся лошадь, он далеко забрел в леса и в глухих их дебрях заблудился.
Есть чудное его изображение в этот момент нашим художником Нестеровым.
Худенький высокий мальчик с уздою на руке шел по глухой лесной поляне и плакал.
Он плакал, может быть, потому, что заблудился или испугался, а может быть,
именно потому, что умиленный окружающею тишиной, опять молился Богу о даровании
ему способности постигнуть грамоту, постигнуть всю премудрость окружающего
мира. О эти детские молитвы, когда чистая душа ребенка чует близость Бога
именно в природе и когда она невольно рвется слиться с нею в умилительных
слезах восторга и молитвы. Так молился в этот раз и отрок Варфоломей. Вдруг он
почуял около себя совсем вблизи старенького отшельника, который молился под
старым дубом. Мальчик подошел к нему под благословение с еще влажными от слез
глазами. И старец, видя его слезы, ласково спросил, о чем он плачет. Мальчик
рассказал о своем горе: не дается ему грамота. Пусть святой подвижник помолится
о нем: может, Бог поможет выучиться хотя бы лишь читать священное писание. И
вот оба стали они на молитву — старый да малый — и молились долго, со слезами и
смирением, от всей чистоты простых сердец, со всею силою тогдашней крепкой
веры.
Быть
может, именно эта встреча с отшельником в глухом лесу была уже началом
всероссийского духовного и монастырского строительства. Во всяком случае, с
этого дня отрок Варфоломей ни о чем другом не думал, как только о
пустынножительстве. Но хозяйство боярина Кирилла пришло в упадок. Он со всей
семьей должен был переселиться в глухую провинцию — в городок Радонеж. Было не
до скитничества, надо было помогать стареющим родителям и братьям. Одного его
родители не отпускали, а старший брат Стефан, которому он доверял свои помыслы,
увлечен был красотою юной девушки и вскоре женился. Средний же, Петр, был еще
молод. Так тянулись годы, пока ушедшие на старости в Хотьков монастырь родители
его померли, а брат Стефан, потерявши молодую жену, постригся в тот же
монастырь. Юный Варфоломей, раздавши бедным все небогатое наследство от
родителей, приступил к исполнению своего заветного желания — быть пустынником.
Окончился срок устремления — настало время действия. И вот мы видим, уже в
изображении Н.К. Рериха, как входит с небольшой заплечною котомкой юный
послушник в тяжелые и мрачные стены монастыря. Позади остается розовое, полное
грядущих радостей утро, а впереди полумрак тяжелых стен и неизвестность.
Двадцатитрехлетний
Варфоломей пришел в Хотьковский монастырь под Москвой. Здесь он упрашивает
брата Стефана пойти с ним в пустынь. Брат не соглашается: сурова жизнь
пустынника. Она свыше меры для познавшего услады жизни человека. Но Варфоломей
просит, умоляет, и добросердечный Стефан наконец уступает. Епифаний,
жизнеописатель и ученик Св. Сергия, о согласии Стефана говорит так: «Принужден
был словесы блаженнаго».
Теперь
надо перенестись в те глухие леса, которые простирались по горам и холмам
нынешних окрестностей Троице-Сергиевой Лавры около шестисот лет тому назад. В
этих-то лесах и блуждали долго радонежские братья, пока «им полюбилось одно
место, удаленное не только от жилищ, но и от путей человеческих». Здесь-то
своими трудами оба брата и построили себе первую деревянную церквицу, которая
была закончена к 1340 году, когда Варфоломею исполнилось 25 лет.
«И
виден был в Нем прежде иноческого образа — совершенный инок, — говорит о
Варфоломее Его современник Епифаний. — Поступь Его была полна скромности и
целомудрия; всегда тихий и молчаливый, кроткий, он был со всеми ласков, ни на
кого не раздражался, от всех с любовью принимал случайные неприятности».
И
это запечатлелось после в одном из многочисленных священных восхвалений,
посвященных Радонежскому подвижнику:
«Радуйся,
иго Христово благое понесший измлада. Радуйся, не обративыйся вспять в шествии
до горняго града. Радуйся, вся мира сего красная (мирские прелести), яко скоро
исчезающая, презревый. Радуйся, зерцало совершеннаго терпения».
* *
*
До
нас, людей XX века, часто звучат бездейственно многие писания и предания
древности. Мы подходим к явлениям давно минувшего слишком недоверчиво, с
подпорченной общежитейской мерою. И на все у нас свое сомнение.
— Да
так ли все это было? — Для нас непостижимо именно это: «Зерцало совершеннаго
терпения». Когда же нам кто-либо попросту правдиво скажет:
— Но
вот Он создал и построил духовные твердыни, и строительство Его испытано
столетиями. Пример Его создал сотни монастырей, миллионы почитателей,
последователей. У гроба Его преклоняли колена все цари Российские и многие
короли и великие люди из многих стран. — Мы на минутку задумаемся и все-таки с
полудоверием говорим: — Возможно, что и были такие замечательные люди… Но все
это прошло и быльем поросло…
Оказывается,
нам нужно сбросить с себя вековые коросты самого обыкновенного незнания и
небрежения к тому, что является источником и настоящего и будущего
одухо-творения жизни. Ведь тогда, 600 лет тому назад, около Св. Сергия
утверждались первые «починки» духовного и исторического строительства. И
происходило это тогда, когда, помимо постоянного подвига духовного, нужна была
невероятная, непосильная для обыкновенных людей борьба прежде всего с самой
суровою природой…
Тот
дремучий лес, глухой, непроходимый, непроезжий, удаленный от жилых мест, нужно
было корчевать, очищать и рубить самым напряженным трудом, вручную, вероятно,
тупым, не стальным, а железным тогдашним топором. Надо представить первый стук
топора в лесу, первую свежую пахучую щепу, первое упавшее дерево и его долгую
старательную очистку и разделку на нужные размеры. Все человеческое юному отшельнику
было присуще: и голод, и усталость, и пот, и мозоли на руках. А вода где-то
далеко внизу, под горой, а за всякой мелочью, хоть и для малой постройки, надо
идти за десятки верст в ближайшее населенное место пешком и все нести на себе,
согбенно… И нельзя было строить, не испросив благословения Великого Князя.
Идут и к архиереям, идут скромные скитники и к Великому Князю. Тогдашние
Приказные Избы, тогдашняя медлительность во всем, писарская волокита. Не скоро,
не в одно лето построилась первая церквица — это взяло два лета и одну зиму. А
непогода, дожди осенние, бури, холода, морозы, снежные воющие вьюги… Может
быть, в одну из таких именно невыносимых для всякого смертного завывающих
ночей, когда нельзя было согреться, когда, быть может, отсырел «трут» или
березовая кора, и огниво не повиновалось закоченелым рукам, — старший брат
Стефан, уже давно иерей, уже возмужалый, сильный человек, не выдержал испытания
и покинул юного Варфоломея… И вот один остался двадцатипятилетний скитник,
один повел борьбу с суровою природой, с непосильной тяжестью одиночества, с
неодолимыми голосами искушений: «Для чего остался? Кому нужны все твои муки? И
не гордыня ли заставляет тебя все это терпеть? Угодно ли все это Богу?»
Вместе
с борьбою с окружающим диким лесом надо все время приводить в лад с
подвижничеством хрупкий, мятущийся дух и цветущее сильное, полнокровное тело.
Варфоломей
изображается высоким, могучим, прекрасным юношей. И все обуздывает, все
укрощает, все смиряет непрестанным, простым, самобытным трудом. Труд, пост и
молитва становятся скоро уже не испытанием, не трудностями, но прибежищем в
скорбях, убежищем от искушений, а затем и потребностью действенного укрощения
тела и духа, действенного совершенствования. Таким образом, труд и
строительство являются не само-целью, не главным в подвиге, но следствием, но
результатом его духовного роста, как цветок и семя являются следствием
необъяснимой тяги всего растущего к солнцу.
Только
в этом состоянии юный отшельник, достаточно себя испытавший, решается принять
пострижение в монашество. Жизнеописатель Его Епифаний с особенной
торжественностью отмечает самый приход в его уединенную церквицу игумена
Митрофания, быть может, подобного тому, который некогда молился с отроком
Варфоломеем в лесу о даровании ему способности к грамоте. Самый обряд
пострижения был настолько скромным, насколько и глубоко значительным. Было это
7 Октября 1342 года, в день Св. Сергия, каковое имя и было дано
новопостриженному.
Старец
Митрофаний побыл с юным иноком всего семь дней, и, чувствуется, что с трудом,
почти с неохотой расставался инок Сергий со своим наставником. Так или иначе,
он остался вновь один, на этот раз уже посвященный иночеству навсегда,
связанный уставом подвижничества до конца.
И
Епифаний снова говорит о нем: «Кто изочтет его теплые слезы и воздыхания, его
стенания молитвенные и плач сердечный, его бдения и ночи без сна? Кто сочтет
его земные поклоны, кто расскажет о его алкании и жажде, о скудности и
недостатках во всем, об искушении от врага и страхованиях (устрашеньях) пустынных?»
А
эти «страхования пустынные», конечно, были очень велики. И были они опять-таки
все в тех же непобежденных силах природы. Бесконечными должны были казаться
северные зимние ночи, ужасающи стенания бурь и завывания волков у маленьких
окошек хижины… И случалось, буря срывала с петель двери, и, как злые
искушения ада, сверкали алчные глаза голодной волчьей стаи. Средь бела дня
повадились ходить в обитель голодные медведи. И сама природа, сама реальность
принуждает подвижника находить гармонию между необходимостью самосохранения и
подвижнической добротою человека, «иже и скоты милует». Устоял подвижник и
против ожесточенных сил природы, и против собственных страхов и слабостей.
На
нескольких полотнах Н.К. Рериха Св. Сергий изображен вместе с медведем, покорно
стоящим возле или даже лежащим. Но примем явление просто и реально, по-земному.
И в этом случае мы увидим, как долго и как терпеливо одинокий скитник
завоевывал доверие, а потом и любовь дикого зверя, который аккуратно приходил
за своей частицей хлеба или сухарей к Сергиевой келии. Потом ему понравилось
просто оставаться у Него в гостях… Медведь делается первым разделившим
одиночество подвижника и первым свидетельствующим святость и благоволение
человека. Природа таким образом сама пришла и поклонилась человеку, не
оскорбленная насилием, но подчиненная его творческой благости.
В
этом не только пример, но и символ ко всему грядущему, но и ключ к познанию и
совершенствованию духа человеческого как благой, творящей энергии.
Не
было тогда не только телеграфа, но и почтовых сообщений. Не было иных способов
передвижения, как только лошадьми или оленями. А больше все по пешему хождению.
Но скоро разнеслось о молодом иноке слово по всей Московской земле. И потекли к
нему «вси труждающие и обремененнии и чающие спасения души». Не хотел он
нарушать свое уединение, но не мог и отказать людям. Стали просить его
поселиться возле, и, конечно, с каждым разделял Он кров свой и последнюю
краюшку хлеба. А потом ему же пришлось им всем служить, за больными ухаживать, в
горе утешать, просящим отдать последнее, за обижающего (были и такие) искренно
молиться.
«Не
может град укрытися в верху горы стоя».
Все
шире и громче разносилась о ските подвижника утешительная весть. Появился на
Русской Земле истинный светильник. И потекли к нему паломники и разоренные
татарами крестьяне из дальних краев. И стала вырастать его обитель, стала
строиться будущая великая, много веков расширявшаяся и возвышавшаяся
Троице-Сергиева Лавра. Строилась и вырастала уже сама собой, иногда помимо и вопреки
воле самого основателя.
Но
пока братии, удостоенной иночества, было двенадцать, пока это число оставалось
нерушимым, очевидно, труден, сверхчеловечен был их подвиг. Недаром один из
пришедших к прославленному игумену крестьян оставил навеки памятное для народа
свое меткое словечко. В обители Сергия он нашел «все худостно, все нищетно, все
сиротинско».
Вокруг
церквицы торчали еще пни от срубленных для постройки вековых деревьев. В
деревянной церквице вместо восковых свечей горели лучины, а сам игумен ходил в
сермяжной, с многими заплатами ряске. И долго еще в обители Св. Сергия
совершалась литургия с деревянными чашею и дискосом. Недаром умиленный всей
этой святою нищетой архимандрит Смоленский Симон решил переменить свою власть
архимандрита на звание Сергиева послушника и принесть на построение нового
храма и монастырских зданий все свое по тем временам большое состояние. Это
было началом уже великого строительства Троице-Сергиевой Лавры, в которую потом
потекли дары целыми вотчинами, так что во время великого голода и моровой язвы,
случившихся в те времена, обитель Св. Сергия могла оказывать большую помощь и
служила как последнее прибежище усопших.
Преподобный
Сергий все же продолжал свой неустанный труд, служа своей братии как самый
рядовой инок: катал из воска церковные свечи, пек просфоры, на ручной мельнице
молол зерно для муки, носил ведрами на коромысле воду, пока, много позже,
испросил молитвами чудесный источник из скалы — словом, это был подвиг во всем
сиянии великого труда, терпения и готовности служить Господу творением блага и
милостыни всем ближним, не спрашивая кто они — свои или чужие.
Василий
Великий некогда сказал: «Буди ревнитель право живущим и сих житие и деяние пиши
на сердце своем».
Еще
в 15-м столетии в многочисленных скитах и келиях, где Св. Сергий Радонежский
был живым примером подвига, деянию его посвящались многие стихи и акафисты.
Форма
восхваления в акафистах — самая вдохновенная и самая восторженная.
«Радуйся,
от чрева матерня освященный, радуйся в рождении Твоем сыном радости нареченный.
Радуйся, пречудное в младенчестве постничество нами являяй. Радуйся, навыкнувый
хранити страх Божий — премудрости начало».
Этот
экстаз радости является венчанием святости и способом совершенствовать дух у
каждого подвизавшегося. Если начал постигать радость и победил уныние, значит,
познал бессмертие.
Пронеслись
века над этими кроткими и задушевными излияниями восхвалений, но свежесть их
восторга, их юная устремленность к облику Преподобного благоухает и сейчас и
кажется действеннее и изумительнее всякой мирской поэзии.
В
рукописях библиотеки Троице-Сергиевой Лавры хранился до недавнего времени
тропарь, написанный неизвестными восторженными почитателями и учениками Сергия.
«В
чистоте жития источник слез твоих, исповедания трудовые поты совокупил еси, и
купель духовную источил, священный Сергие Преподобне, омываеши сугубство
творящим любовию память Твою, скверны обоямо душевные и телесныя; сего ради
чада твоя суща вопием Ти: моли, Отче, святую Троицу о душах наших».
Но
осталась о Сергии и простая проза тех времен. Его современник и ученик Епифаний
написал о Нем большой труд. И начинается этот труд так:
«Слава
Богу о всем и всяческим ради. Слава Показавшему нам житие мужа свята и старца
духовна, — благодарим Бога за премногую Его благость, бывшую на нас, яко дарова
нам свята старца, господина Преподобнаго Сергия, в земли нашей Рустей, в стране
полунощней».
Некогда
Пушкину для «потомков православных» удалось создать образ летописца Пимена. Кто
не вдумывался через этот образ в события минувших веков? Но Пимен жил двумя
столетиями позже, а Епифаний, один из близких учеников Св. Сергия, жил в 14-ом
веке. Поэтому как волнительно читать его подлинное тогдашнее разговорное слово,
точно вот он, склонившись, выводит слово за словом и сам же вслух их повторяет.
«Дивлюсь
же, како толико лет минуло, а житие святого старца не писано было, и о сем
сжалихся зело, како убо таковой святый старец пречудный и предобрый, отнеле же
преставился 26 лет прейде, и никто не дерзняше писати о нем, ни дальний, ни ближний,
ни больший, ни меньший».
Только
поэтому дерзнул блаженный Епифаний писать о своем Учителе. А потом, опираясь на
Епифаниево жизнеописание, сотни и тысячи писали о Св. Сергии — и дальние, и
ближние, и большие, и меньшие. Писали о нем великие Иерархи церкви, смиренные
монахи, глубокие историки, как В.О. Ключевский, великие писатели, как Лев
Толстой, и даже писатели современные: Б. Зайцев за рубежом и писатели А.
Демидов, Пантелеймон Романов и другие в самой России, уже когда гробница Св.
Сергия была потревожена.
Летописцы
русские называли Сергия «Игуменом Всея Руси».
А
вся наша Церковь величает Его «Возбранным воеводой Русской Земли».
15
Мая 1937 года со дня рождения Преподобного Сергия исполнилось 623 года, а со
дня Его отхода 546 лет. Когда девять лет назад снимаемый с высоты древнего
собора в Сергиевой Лавре колокол упал и разбился на куски (шесть месяцев
«лучшие» советские инженеры «работали»), — вместе с глубокой жалостью к людям,
это творящим, возникла и утвердилась мысль: вот настала пора, когда Всероссийский
Учитель Сергий становится Учителем Вселенским и когда не один, но тысячи
колоколов неумолимо зазвучат в миллионах сердец и в совести всечеловеческой.
Может ли быть более убедительное, более действенное прославление Сергиева
терпения и смирения, когда всероссийское и всемирное сознание ощутило и нашло
свое могущество в утверждении, что и это испытание нами заслужено и что надо
снова звать на помощь Дух того же Св. Сергия… То, о чем звонили русские
колокола, будет с новой силой звонить пробуждающееся сознание русских людей во
всем мире.
Во
всем совершающемся есть наивысший Промысл. Судьба испытывает истинное усердие и
подвиг. Ни в грандиозности соборов — истинное значение религии. И, конечно, не
в словесных протестах, не в кровавой мести — победы духа и радость истины, но в
накоплении духовного сознания и в честном пересмотре собственных поступков. В
чем была ошибка целой нации, если наивысшие святыни, силою которых создана вся
державность и все величие русской культуры, — если эти именно святыни
попираются ногами наших же собственных поколений? Надо уметь спокойно
посмотреть в глаза опасности и надо использовать всю мощь вынужденного
молчания, — но не для того, чтобы на зло ответить злодейством, а для того,
чтобы всю наиболее тонкую и наиболее могущественную силу веры и духовной
энергии правильно включить во всемирное динамическое действие благих начал.
Вера горами двигает.
Но
что такое вера — и кто такой теперь «верующий»? Вера не только доверие, это
верность заветам Древней Церкви, присяга, переданная нам святителями Церкви,
могущество внутреннего значения, более убедительное, нежели все науки вместе
взятые, ибо и науки только дети веры. Всякий инженер-изобретатель вначале
только верит в его идеи, а уже потом технически воплощает свою веру.
Когда
Св. Сергий вырастал извнутри себя и строил во-вне, — он уже тогда расширял
сферу своей веры и своего влияния как носитель и хранитель ценностей нетленных
и неистребимых. Он не принял золотого креста от митрополита Алексия, — ибо нес
на себе крест подвига. Он отказался даже от сана епископа, боясь власти не
других над собою, но своей власти над другими. В те полуграмотные времена он
был сильнее великих князей, просвещеннее Льва Толстого, дальновиднее
современного Ганди, проще и мудрее всех философов, появившихся в мире в
последующие просвещенные столетия. Вот почему каждый его поступок полон
глубокого значения для всех времен. Св. Сергий соединил в себе наивысшее
милосердие с наивысшей силой справедливости и терпения. «Зерцало — совершенного
терпения».
Когда
братия Его, которую Он не звал к себе, но и не удалял из своей обители, создала
обычную во всяких общежитиях атмосферу недовольства и шептания, он просто и
бесшумно удалился из своей обители. И, несмотря на все мольбы посланцев, — не
вернулся в течение ряда лет. А в течение этих лет вокруг него на реке Кержиче
опять построилась и наполнилась новая обитель. И делал Он это не для себя, а
для той же братии, в которой должно было проснуться чувство ответственности за
свои поступки.
Так
же точно, до конца терпимо и в глубоко христианском духе, поступил Он и как
вынужденный государственный муж и наставник враждовавших меж собою русских
князей. Только силою своего чистого духа и любви ко всем к нему приходившим —
Он мог сохранить над ними свой авторитет и сломить непокорную волю
враждовавшего против Москвы князя Олега Рязанского. Он умел мирить князей и
мирян, умел предотвращать кровопролития и междоусобицы и всегда оставался тем
же иереем, все в той же самодельной, домотканой сермяжной одежде. Какое величие
в простоте: даже не из серебряной, а из деревянной чаши совершал таинство
причащения! Поэтому одно Его слово — о возможном запрещении духовенству
совершать службы и требы в непокорном княжестве — действовало сильнее угрозы
меча. Князья смирялись, боясь такого запрещения.
А
как он поступил, когда Дмитрий Донской, обессиленный в борьбе с татарскими
нашествиями и перед решением — быть или не быть последней битве, — пришел в
обитель Сергия как в последнее убежище. Не сразу согласился Св. Сергий не
только на борьбу с Мамаем, но и на оборону от него Москвы.
«Отдай
ему все, что он желает», — был неоднократный ответ Преподобного Сергия на
жалобы Дмитрия. Но Дмитрий взмолился:
— Я
все уступил ему. Он забрал земли, полонил мои войска, умыкивает (увозит
насильно) тысячи наших женщин, истребляет малых детей, оскверняет наши святыни.
И
все-таки не соглашался Преподобный Сергий благословить новое кровопролитие.
Наконец он удалился, чтобы побыть с собой наедине и обратился в духе к Богу.
Через
некоторое время твердою походкой вышел Он к Дмитрию. И ответ Его был таков:
—
Если так… Иди, господине, небоязненно! — и, понизив голос, сказал одному
великому князю: — Победиши враги твоя.
Так,
с благословения Святого Возбраннаго Воеводы началось бытие державы
Всероссийской и расширение ее границ. Так началась колонизация окраин и
строительство русских монастырей даже в далекой и глухой тогда Сибири, куда
Мамаевы войска увели с собой тысячи пленных бойцов и иноков, тысячи русских
полонянок и их детей.
Так
Преподобный Сергий Радонежский положил на свое иночество 56 лет непрерывного
собственноручного тяжелого труда. И кто бы ни был ты, приходящий ныне судить
прошлое, склони свои колена перед трудом истинного созидания, ибо ты и твои
предки испили много истинного знания, опыта и блага из источника русской
духовной культуры. И если мы не смогли ими воспользоваться на благо настоящего
и будущего, то в этом не вина строителей и подвижников прошлого, но наша
собственная вина.
Но
эта реальная, житейская сторона в наследии, оставшемся от деяний Преподобного
Сергия, все же сторона не самая главная. Не главная она потому, что всякое
созидание труда и рук человеческих все-таки подвержено разрушению, изменению и
даже полному уничтожению. Но в том-то и дело, что деяния Св. Сергия и подобных
ему иных святителей Русской Земли проложили иные, неистребимые и созидающие в
иных сферах бытия пути. Но эти пути настолько ослепительны и высоки, что не
всякий скромный сын века сего может осмелиться касаться их. Они, как высокого
напряжения электрический ток, требуют тонкого и большого знания для обращения с
ними.
В наши
смутные, черные дни всероссийского смятения и отчаяния Русский народ должен
вспомнить, как не раз после своей блаженной кончины Преподобный Сергий помогал
России в победах над смутами.
Таково
время польской осады Троице-Сергиевой Лавры, когда Он явился защитником Русской
святыни и помогал до конца стоять и победить.
Особенно
же важно вспомнить, что Преподобный Сергий три раза являлся во сне
Новгородскому купцу Кузьме Минину и вдохновил его совершить великое
патриотическое дело защиты Родины под водительством князя Пожарского.
Недаром
и ныне мы видим имя Св. Сергия во многих странах, и быть может, скоро большие и
малые колокола возблаговестят возникновение по всей земле святых скитов,
носящих имя русского святителя, который становится святителем Вселенским, как
вселенскою жертвою стала Россия.
Вот
почему всякий чуткий человек тянется к облику этого подвижника и вот почему так
ревностно, так жадно хочется приникнуть к истокам Его простого, такого убогого
внешне и такого насыщенного и неотразимо-прекрасного внутренне святого жития.
Мудрено
ли, что и нескромное воображение летописца современности тянется к Нему как к
источнику вечно нового и очищающего вдохновения. Да будет снисходителен
Святитель Сергий, если самый недостойный из устремившихся в Его нетленную
обитель дерзнул по-своему понять деяния и черты из жизни Преподобного.
Так
из-за великого моря-океана, из далеких земель Америки тянется душа к истокам
русского подвига. Так и ныне, в лето тысяча девятьсот тридцать восьмое, образ
Св. Сергия незримо нас ведет к радостной победе света, к возрождению народа,
среди которого были и снова будут великие Подвижники и воины Христовы, Рыцари
Духа Святого. А при наличии таких подвижников, духовных воинов и рыцарей, даже
при малом их числе, источники святых устремлений и деяний на земле не иссякнут.
И снова будут времена, в особенности после пагубных периодов и смут, когда все
взыскующие Светлого Града опять потянутся к этим источникам, чтобы во всех
концах земли возжечь огни животворящей радости, чтобы создать своими трудами
новую, простую, но несокрушимую Обитель Света — Радонегу. И Преподобный Сергий
Радонежский останется бессменным Игуменом Всея Руси на все времена.
Дух
Святого Сергия, Его обдуманная решимость помочь Земле Русской как носительнице
Христианского Благочестия в освобождении от татарского ига и, наконец, разумная
воля, глубокий патриотизм и воинская доблесть самого великого князя Дмитрия
Иоанновича, соединились в силу высокого напряжения против нависшей страшной
опасности решительного Мамаева нашествия.
Московское
государство еще не было собрано, народ разорен, казна опустошена, ратные силы
были весьма ограничены и слабо снабжены. Во всем были бедность, подавленность и
неустройство. А военная опасность молодому тридцатилетнему московскому
правителю угрожала с трех сторон. Кроме наступавшего несметными силами с юга
Мамая, справа из Литвы шел на соединение с Мамаем с большим войском князь Литвы
Ягайло, сын давнего врага Москвы Ольгерда (матерью Ягайлы и женой Ольгерда была
русская княжна Ульяна Тверская, значит, Ягайло был родственником русских
князей). А слева, из Рязани, наступал с большой ратью Олег Рязанский, не
желавший подчиниться Дмитрию и выжидавший помощи Мамая овладеть Москвой.
Несмотря
на все эти невероятные трудности и грозную опасность, Дмитрий сумел
подготовиться к великой битве с необычайной воинской предусмотрительностью.
В
его распоряжении к Августу 1380 года было около 150 тысяч воинов, главным
образом конницы. Поход его на поле брани, в верховья реки Дона, был совершен
всего лишь в две недели, — что при тогдашнем бездорожье, через реки без мостов,
без заранее заготовленного снабжения да еще при необходимости уклоняться от
удара Олеговой рати, надо считать блестящим, стремительным походом. Ведь
Куликово Поле от Москвы находится не меньше 350 верст и лежит на правом берегу
Дона, примерно в таком расположении: если сделать крест из прямых дорог, то на
концах креста: на северном будет Тула, на южном Воронеж, на западном Орел, а на
восточном Тамбов, а в самом центре, в соединении креста, и будет примерно то
историческое место, где произошло великое кровопролитие, положившее начало
государственному бытию России, — Куликовское Поле.
Считая
крайне важным для современного читателя напомнить о некоторых подробностях
этого великого и страшного события, мы позволим себе ниже взять несколько
страниц из «Сказаний о Русской Земле» А. Нечволодова, рисующих эту картину с
упоминанием чисел времени, и имен полков и полководцев, и гениального
стратегического плана расположения и наступления войск Дмитрия Донского. Не
следует забывать, что войска Мамая, превышавшие численностью войска Дмитрия
более чем вдвое, были не только превосходно вооружены, но и представляли собою
силу своей боеспособностью, отважностью и знанием ратного дела. В армиях Мамая
больше половины было разноплеменных прирожденных воинов: тут были татары,
половцы, черкесы, армяне, ясы, бесермены (басурманы, нехристиане), наемные
итальянцы и крымские генуэзцы, литовцы и частью даже те же полоненные русские и
воины прочих завоеванных земель, через которые всюду победно проходил в то
время могущественный азиатский повелитель Мамай.
Идти
против этой силы могло заставить только отчаяние или какая-то чудесная вера в
невероятную победу.
Читая
«Сказания о Русской Земле», мы все время видим невидимое присутствие Св.
Сергия, возбранного воеводу Русской Земли, помогавшего на поле брани своей
могущественной светлой силою.
Недаром
Дмитрий Иоаннович не делал ни одного шагу в этом великом походе без
благословения Преподобного Сергия.
Мы
передаем эти исторические страницы, сохраняя их подлинность и способ изложения.
«И
окропи священною водою великого князя и рече ему: Аще убо так есть, то убо ждет
его (Мамая) конечное погубление и запустение, тебе же от Господа Бога и
Пречистыя Богородицы и святых Его помощь и милость и слава…»
Вещие
слова Преподобного наполнили радостью и надеждою сердце великого князя, а
Преподобный Сергий отпустил с великим князем еще и двух витязей-иноков —
Александра Пересвета, бывшего в миру Боярином Брянским, и Ослябю, опытного в
ратном деле.
«Он
же (Св. Сергий) даде им (Пересвету и Ослябе) оружие в тленных местах нетленное
— Крест Христов — нашит на схимах». Вот чем и как вооружил он посылаемых на
битву иноков-богатырей.
Между
тем Русское воинство стекалось со всех сторон.
Явились
полки и дружины: Ростовские, Белозерские, Ярославские, Владимирские,
Суздальские, Переяславльские, Костромские, Муромские, Димитровские, Можайские,
Звенигородские, Серпуховские; пришла рать и от Тверского князя с племянником
его Иваном Холмским; наконец, должны были подойти полки Нижегородские, а также
верные союзники, шедшие из Пскова, и Димитрий Корибут Брянский; ожидались и
некоторые другие отряды.
Почти
все войско было конное, что, конечно, давало возможность Дмитрию развить
большую быстроту движений. Бряцания оружия и трубные звуки не умолкали в
Москве. Среди ратников царило величайшее воодушевление; каждый был счастлив
сознанием величия предстоящей борьбы, а в храмах священники и
коленопреклоненный народ умиленно возносили свои горячие молитвы о ниспослании
победы.
20
Августа 1380 года в прекрасное ясное утро Московская рать выступила в поход.
Дмитрий сначала горячо молился в соборном Успенском храме, со слезами молясь у
гроба Святого Петра и усердно прося его помощи, а потом перешел в Архангельский
собор, где поклонился гробам родителя и деда.
Затем
он простился с нежно любимой супругой своей и детьми.
Удерживая
слезы, он поцеловал княгиню Евдокию Димитриевну, сказал ей на прощание: «Бог
нам заступник», — и, сев на коня, выехал к выступавшему войску, которое
благословляло и кропило святой водой духовенство, вышедшее его проводить из
кремлевских соборов. Евдокия же Димитриевна вместе со своими боярынями смотрела
с верха великокняжеского терема вослед удалявшемуся воинству.
Полки
представляли величественное зрелище. Их доспехи и оружие ярко блистали на
утреннем солнце. Кольчатые железные брони или стальные панцири из блях, шлемы с
остроконечными верхушками, продолговатые щиты, окрашенные в красный цвет, тугие
луки и колчаны со стрелами, острые копья, частью кривые булатные сабли, частью
прямые — составляли вооружение и снаряжение русских воинов. Над их рядами во
множестве развевались знамена или стяги на высоких древках с поднятыми вверх
нарядными, блестящими, большею частью позлащенными доспехами, а также яркими
наброшенными поверх них плащами.
Из
их среды особенно выделялся сам Дмитрий Иоаннович. Это был высокий плотный
человек с темной окладистой бородкой и большими умными глазами, в полном
расцвете своих сил: ему было едва тридцать лет от роду. Далеко был виден и его
огромный, алого цвета, велико-княжеский стяг с ликом Нерукотворного Спаса.
Расставшись
с нежной супругой, Дмитрий подъехал к войскам и громко сказал:
—
Братия моя милая, не пощадим живота своего за веру христианскую, за святыя
церкви и за Землю Русскую!
—
Готовы сложить свои головы за веру Христову и за тебя, Государь великий князь!
— восторженно отвечали ему из рядов.
Во
избежание тесноты и для достижения наибольшей быстроты рать двинулась к Коломне
по трем дорогам. С войском шло десять сурожан — русских купцов, хорошо знавших
южные пути по степи, почему они и могли быть надежными проводниками, а также
отыскивать и закупать по дороге продовольствие.
24
Августа великий князь достиг Коломны. На другой день на Девичьем Поле был
произведен смотр войскам, которые, конечно, представились в самом блестящем
виде. Их было свыше ста пятидесяти тысяч человек.
У
устья Лопасни к рати Дмитрия присоединились брат его князь Владимир Андреевич
со своими войсками, собиравшимися в Серпухове, а также и большой воевода
Московский, или окольничий, Тимофей Вельяминов с остальными Московскими
полками. Собралась несметная рать, теперь уже, может быть, тысяч более двухсот.
От
устья Лопасни, переправившись через Оку, рать эта направилась прямо к верхнему
Дону, причем проходя по Рязанской Земле, настрого было приказано не обижать
жителей, «ни один волос не тронуть».
Очевидно, умный Дмитрий отнюдь не желал разорять и раздражать население
Рязанской Земли, не повинное в измене своего князя.
Войска
наши двигались, разделенные по обычаю на четыре полка. Главный, или великий,
полк Дмитрий оставил под личным своим начальством; в свой же полк он поместил и
удалых князей Белозерских. Кроме собственной Московской дружины, в этом главном
полку находились местные воеводы, начальствовавшие следующими дружинами:
Коломенской — тысяцкий Николай Васильевич Вельяминов, Владимирской — князь
Роман Прозоровский, Юрьевской — боярин Тимофей Валуевич, Костромской — Иван
Родионович Квашня и Переяславльской — Андрей Муромский.
Полк
левой руки, шедший левее великого полка, вел князь Глеб Брянский.
Передовой
же полк, шедший во главе рати, вели князья Димитрий и Владимир Всеволодовичи
(по-видимому, Друцкие).
По
пути от устья Лопасни присоединились к ним оба Ольгердовича — Андрей и Димитрий
Корибут.
Для
сбора сведений о положении, силах и намерении неприятеля, на поддержку своей
«крепкой стражи» была выслана вперед отборная конница смелого и искусного
боярина Семена Мелика. С ним находились славные своим удальством Московские
дворяне-разведчики: Кренин, Тынин, Горский, Чириков, Карп Александрович и
другие.
Подойдя
к Дону, Дмитрий Иоаннович остановился в местности, называемой Березой, поджидая
подхода нашей рати; сюда к нему явились с разведки Петр Горский и Карп
Александрович с приведенным «языком», татарином из двора самого Мамая, который
под угрозой жестокой пытки показал, что Мамай подвигается вперед, но медленно,
вероятно, ожидая прибытия Ягайлы Литовского и Олега Рязанского, причем он не
знает, что Дмитрий подошел уже так близко, полагая, что тот не отважится
выступить ему навстречу. Однако надо думать, что Мамай все же дня через три уже
перейдет Дон.
В то
же время пришла весть и с другой стороны: Ягайло выступил на соединение с
Мамаем и стоял уже у Одоева.
При
этих обстоятельствах медлить с принятием решения было отнюдь нельзя, и Дмитрий
тотчас же собрал военный совет из князей и бояр. На совете этом, как
обыкновенно на всех советах, мнения разделились. Более осторожные советовали не
переходить Дона, а принять на нем оборонительный бой, причем в случае неудачи
легче будет отступать, но другие, в том числе и Ольгердовичи Литовские,
говорили иначе: «Если останемся здесь, то дадим место малодушию. А если
перевеземся на ту сторону Дона, то крепкий дух будет в воинстве твоем. Зная,
что отступать и бежать некуда, что остается только победить или лечь костьми,
воины будут сражаться мужественно. А что языки (вести) страшат нас несметною
Татарскою силою, то не в силе Бог, а в правде». Приводили при этом и примеры
славных предков Дмитрия: Ярослава, победившего Святополка Окаянного,
переправившись через Днепр, и Александра Невского. Указывали и на важную
необходимость движения вперед с целью помешать соединению Ягайлы с Мамаем.
Дмитрий
Иоаннович был, разумеется, всецело за движение вперед. И вот для поощрения
более осторожных воевод, он стал держать такое слово:
—
Любезные друзья и братья! Ведайте, что я пришел сюда не за тем, чтобы на Олега
смотреть или реку Дон стеречь, но дабы Русскую Землю от пленения и разорения
избавить или голову свою за всех положить; честная смерть лучше плохого живота.
Лучше было бы мне идти против безбожных татар, нежели, пришед и ничтоже
сотворив, воротиться вспять. Ныне же пойдем за Дон и там или победим и все от
гибели сохраним, или сложим свои головы за святые церкви, за Православную веру
и за братьев наших Христиан.
Мужественное
и мудрое решение Дмитрия сильно поддерживала и полученная им грамота от
Преподобного Сергия, которую последний прислал вместе с освященной просфорой.
Этот
пламенный печальник и молитвенник о Земле Русской следил с живейшим участием за
всеми движениями нашей рати и получал об этом сведения через гонцов, постоянно
посылаемых Дмитрием в Москву к боярам и духовенству.
Преподобный
Сергий в своей грамоте вместе с монастырским благословением наказывал Дмитрию:
«Без всякого сомнения, Государь, иди против них и, не предаваясь страху, твердо
надейся, что поможет тебе Господь и Пресвятая Богородица».
7
Сентября войско наше придвинулось к Дону и пехота переправилась через
наведенные мосты из деревьев и хворосту, нарубленных в соседних дубравах, а
коннице приказано было искать бродов.
К
ночи вся Русская рать успела перейти реку и стала на ночлег на лесистых холмах,
расположенных у впадения в Дон речки Непрядвы.
В
это время бывший впереди с разведчиками боярин Семен Мелик лично прискакал к
Дмитрию с важным донесением, что Мамай со всеми силами уже подходит и что
передовые Русские части уже бились с Татарами.
Таким
образом, завтра, 8 Сентября, в день Рождества Богородицы, между обоими
воинствами должно было начаться страшное побоище на местности, носящей название
Куликова Поля. Поле это покрыто небольшими возвышенностями и оврагами, кое-где
на нем рос и лес. Речка Смолка разделяла оба стана.
Ночь
была тихая и теплая.
Великий
князь с воеводой Димитрием Михайловичем Волынским-Боброком сели на коней,
выехали на Куликово Поле, стали между обеих ратей и начали прислушиваться.
Со
стороны Татарского стана доносился великий клич и стук, а позади его слышалось
завывание волков; на левой стороне, носясь в воздухе, клекотали орлы и граяли
вороны; а на правой — вились стаи гусей, лебедей и уток и трепетно плескали
крыльями, как бы перед страшной бурей.
С
Русской же стороны ничего не было слышно; видно было только зарево, как бы от множества огней.
—
Господине княже, благодари Бога! — промолвил Боброк. — Огни суть доброе
знамение.
Утро
8 Сентября было очень туманное, мгла мешала видеть движение полков, и с обеих
сторон слышны были только трубные звуки, но в девятом часу появилось солнце.
Русские
полки, занимая линию в 10 верст, выстроились так, что оконечностями своих
крыльев они упирались в труднодоступные места — овраги и дебри протекающих на
Куликовом Поле речек. Полк правой руки, под начальством Андрея Ольгердовича,
примкнул к оврагу Нижнего Дубика. Полк левой руки князей Белозерских прикрывался
речкою Смолкою. В середине — расположился большой полк, которым, под великим
князем, начальствовали князь Глеб Брянский и окольничий Тимофей Вельяминов.
Впереди был поставлен передовой полк, к которому отошли и разведчики Семена
Мелика; им начальствовали братья Всеволодовичи (вероятно, князья Друцкие).
Кроме того, за левым крылом большого полка в виде поддержки ему был поставлен
особый отряд Димитрия Ольгердовича.
Наконец,
засадный полк, или, как теперь говорят, общий резерв для нанесения решительного
удара, из отборной конницы под начальством князя Владимира Андреевича и
славного воеводы Димитрия Михайловича Волынского-Боброка расположился за левым
крылом всего боевого порядка, укрываясь густой зеленою дубравою. Выбор этого
места обнаруживал весьма проницательный военный глазомер Димитрия: засадный
полк был помещен совершенно укрыто и притом таким образом, что мог легко
подкрепить сражающихся и вместе с тем прикрывал обозы и сообщение с мостами,
наведенными на Дону, то есть единственный путь отступления на случай неудачи.
Чрезвычайно
удачно были назначены Дмитрием и начальники над засадным полком: опытный
воевода Димитрий Михайлович Волынский-Боброк мог лучше всякого другого
определить, когда именно надлежало начать действовать этому полку, и сдерживал
до времени молодого и горячего Владимира Андреевича; пылкий же князь Владимир
Андреевич, любимец войск, был как нельзя более пригоден для воодушевления своих
воинов и ведения самого решительного боя, после того как засадный полк
вступится в дело.
Устроив
полки, Дмитрий объехал их, говоря: «Возлюбленные отцы и братья, Господа ради и
Пречистыя Богородицы и святаго ради спасения подвизайтеся за православную веру
и за братию нашу!» Ему отвечали из рядов восторженными кликами.
Затем
он подъехал к своей дружине, стоявшей в челе главного полка, где развевался его
собственный большой алый стяг с ликом Нерукотворного Спаса, сошел с своего
богато убранного коня, усердно помолился Богу, снял с себя златотканый плащ и
возложил его на своего любимца, боярина Михаила Андреевича Бренка; сам же
покрылся сверх своей позлащенной брони простым плащом и пересел на другую
лошадь. Затем он вынул из-за пазухи крест с частицею Животворящего древа,
вкусил просфору, присланную Святым Сергием и, творя в сердечном умилении
молитву, поехал в сторожевой полк, чтобы впереди его, по примеру великих своих
предков, собственноручно ударить на врага.
Очевидно,
Дмитрий надел свой златотканый плащ на боярина Бренка для того, чтобы не сразу
броситься в глаза Татарам, а также и для того, чтобы воины взглядывали во время
сечи на большой полк и, видя под алым стягом всадника в златотканом плаще,
имели бы уверенность, что их славный вождь жив и вместе с ними.
Князья
и воеводы удерживали Дмитрия от желания драться впереди в качестве простого
воина и указывали, что ему надлежит стоять в стороне от битвы, наблюдая за ее
ходом.
«Тебе
подобает стоять особо от битвы, — говорили они, — и смотреть на сражающихся, а
потом честить и жаловать оставшихся в живых и творить память по убиенным. Если
же тебя, Государь, лишимся, то уподобимся стаду овец без пастыря; придут волки
и распугают нас». Но уговоры их были напрасны. «Братия моя милая, — отвечал
Дмитрий, — добрыя ваши речи и похвалы достойныя. Но если я вам глава, то
впереди вас хочу и битву начать. Умру или жив буду — вместе с вами».
В
час позднего утра показалась Татарская рать; своими серыми кафтанами и темными
щитами она походила на черную тучу. Навстречу Татарам немедленно двинулись
Русские, сияя своими светлыми доспехами и червлеными щитами. Передовой Татарский
полк в средней своей части состоял из пехоты.
Эти
пехотинцы шли густым строем, причем задние ряды клали свои копья на плечи
передних, у которых они были короче, а у задних длиннее. В Русском передовом
полку тоже имелась пехота.
В
некотором расстоянии друг от друга обе рати вдруг остановились. Тут с Татарской
стороны выехал огромный воин, подобный древнему Голиафу, чтобы начать битву
единоборством. Звали Татарского великана Челибей, а по другим сведениям —
Темир-Мурза.
Завидя
его, инок Пересвет, бывший с Ослябей в передовом полку, сказал воеводам, что
хочет биться с Татарином, и воскликнул: «Отцы и братья, простите меня грешного;
брате Ослябе, моли за меня Бога. Преподобный отец игумен Сергий, помоги мне
молитвою твоею!» Затем с копьем в руке и со схимою и крестом на голове Пересвет
выскакал из рядов и понесся на Татарского Голиафа. Тот тоже кинулся ему
навстречу, и оба ударились друг о друга с такой силою, что кони их пали на
колени, а сами богатыри мертвыми рухнули на землю.
Вслед
за тем наступил и черед Дмитрия Иоанновича. Он бросился во главе передового
полка на Татар и, громогласно читая псалом «Бог нам прибежище и сила», врубился
в их ряды.
Вскоре
обе рати смешались, и началась жесточайшая сеча. Дмитрий продолжал сражаться
как простой ратник, показывая пример мужества и отваги, и переменил несколько
коней, убитых под ним. Мамай же, избегая опасности, наблюдал за сражением с
вершины Красного Холма. Ратники задыхались в густой свалке, а расступиться в
стороны мешали свойства местности, изрезанной оврагами. В тесноте воины
схватывали противника левой рукой, а правой рубили или кололи. Многие умирали
под конскими копытами. По выражению летописца, «копья ломались, как солома,
стрелы падали дождем, пыль закрывала солнечные лучи, мечи сверкали молниями, а
люди падали как трава под косою, кровь же лилась как вода и текла ручьями».
Кони едва могли двигаться от множества трупов, которыми в самое короткое время
покрылось все поле битвы.
Скоро
пешая Русская рать, бывшая в передовом полку, вся полегла костьми. Татары, коих
было свыше трехсот тысяч, пользуясь своим превосходством в числе, стали теперь
напирать на главную рать. Продвигаясь вперед в жаркой сече, они досеклись до
великокняжеского стяга и успели, несмотря на отчаянное сопротивление, подрубить
его древко, причем был убит славный боярин Бренк. Настал страшный час. Но Глеб
Брянский и окольничий Тимофей Вельяминов с своими полками, смогли наконец
остановить дальнейшее движение врагов в этом месте. На нашей же правой руке
храбрый Андрей Ольгердович не только выдержал напор сильного Татарского
полчища, навалившегося на него, но стал даже его одолевать.
Тогда
Татары, видя, что нельзя обойти Русских с крыльев, благодаря искусному
расположению нашей рати великим князем, решили прорвать где-либо наш строй и
ударили с огромными силами на наше левое крыло с целью уничтожить его
совершенно. Страшный бой закипел здесь: свежие полчища Татар устремились сюда
одно за другим; наконец все храбрые Белозерские князья, дравшиеся героями,
пали, и наш полк левой руки, тая все более и более, стал подаваться назад под
напором врагов. Вследствие этого большому полку угрожала теперь опасность быть
обойденным сбоку и с тыла, причем войско наше припиралось к реке Непрядве и
отрезывалось от Дона и мостов. Конечно, Татарские воеводы хорошо соображали
это, а потому и направляли все свои силы в самое чувствительное место Русского
войска. Уже раздавались неистовое гиканье и победные клики Татар. Но тут-то и
сказалась замечательная предусмотрительность великого князя в расположении
нашего засадного полка.
Храбрый
Владимир Андреевич уже давно порывался вступить с этим полком в бой, следя (при
помощи нескольких воинов, взобравшихся на деревья) за его ходом. Но опытный
Димитрий Михайлович Волынский-Боброк удерживал. Наконец он громко воскликнул: «Теперь
и наш час приспел. Дерзайте, братия и други! Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа!» И, «как соколы на журавлиное стадо», устремились герои засадного полка
на совершенно не чаявших их Татар. Конечно, это ошеломило их до чрезвычайности.
А между тем и Димитрий Ольгердович, предусмотрительно поставленный позади
большого полка в виде его поддержки, за-крыл с своей стороны его открывшийся
участок, и Татарская рать попала здесь как бы между двух стен.
К
концу дня Русское мужество и стойкость взяли наконец верх. Татары дрогнули и
стали повсеместно отходить назад. Около своих таборов они приостановились и
вновь вступили в бой, но ненадолго. Русские неудержимо пошли вперед и охватили
врагов со всех сторон. Скоро все Татарское полчище обратилось в дикое бегство. Сам
Мамай, охваченный ужасом, воскликнул с тоской: «Велик Бог Христианский!» — и
начал отступать. Наши конные отряды преследовали врагов до реки Мечи, то есть
на расстоянии сорока верст.
Победа
была самая полная. Ягайло, стоявший от поля битвы в расстоянии дневного
перехода, поспешил отступить в свои пределы, как только узнал о печальном
исходе для Мамая.
Владимир
Андреевич Храбрый стоял «на костях» под алым великокняжеским знаменем и велел
трубить сбор. Скоро со всех сторон начали съезжаться князья и воеводы, но
Дмитрия не было. «Где брат мой и первоначальник нашей славы?» — с беспокойством
спрашивал Владимир Андреевич, но никто не мог дать на это ответа, хотя многие и
видели отдельные подвиги Дмитрия в течение дня.
Тогда
были посланы во все стороны люди его дружины. Они рассыпались по Куликову Полю
и начали прилежно осматривать лежавшие повсюду кучи трупов. Некоторые увидели
на одном убитом великокняжеский плащ и подумали, что нашли Дмитрия, но это
оказался боярин Бренк; другие приняли было за великого князя Феодора Семеновича
Белозерского, который был похож на него; третьи нашли павшего коня и несколько
убитых слуг Дмитрия; но самого его не было видно. Наконец, два костромича,
Феодор Сабут и Григорий Хлопищев, усмотрели в какой-то дубравке великого князя,
лежащего неподвижно. Скоро сюда прискакали все князья и бояре и, слезши с
коней, поклонились до земли лежащему Дмитрию.
—
Брат мой милый, великий княже Дмитрий Иоаннович! Слава Господу нашему Иисусу
Христу и Пречистой Его Матери. Молитвами и помощью угодников Божиих мы победили
своих супостатов! — раздался над ним взволнованный голос.
—
Кто глаголит сие? — проговорил Дмитрий, открывая глаза.
—
Это я, брат твой Владимир; возвещаю тебе, что Бог явил тебе милость, даровал
победу над врагами.
Обрадованного
Дмитрия подняли на ноги. Шлем его и латы были иссечены; все тело покрыто
кровавыми ранами, но смертельных ран не было. Его повезли в великокняжеский
шатер и веселыми трубными звуками известили воинство, что его державный вождь
милостию Божией жив.
Следующий
день был Воскресный. Вознося усердные молитвы Всевышнему, Дмитрий, несмотря на
страшное утомление и слабость от ранений, стал объезжать войска и громко
благодарить их за славную победу. Потом он отправился осматривать поле битвы.
Зрелище было потрясающее. При виде множества убитых славных защитников Родины
великий князь залился слезами. Одних князей было убито пятнадцать человек.
Кроме Пересвета, погиб и славный инок Ослябя, а также лихой разведчик Семен
Мелик и много других бояр.
Восемь
дней оставались Русские близ места ужасного побоища, предавая погребению своих
братий. Когда сосчитали оставшихся в живых, то было только сорок тысяч человек.
Такой дорогой ценой была куплена Куликовская победа.
* *
*
Значение
Битвы на Куликовом Поле, конечно, было громадно во всех отношениях. Это было
несомненное торжество Руси над всей Татарскою Ордой. Мало того, это было вместе
с тем и торжество Европы над Азией. Русский народ, волею Провидения
поставленный в сторожах всех европейских народов для защиты их от вторжения
азиатских полчищ, блистательно выполнил на Куликовом Поле свое великое
назначение. Если же мы припомним, что с одной стороны участвовали все несметные
силы Мамая, а с другой — население только трех или четырех губерний нынешней
Европейской России, то мы должны еще более проникнуться благоговейным уважением
перед великим подвигом доблестных наших предков и перед изумительными
дарованиями Дмитрия Иоанновича, получившего от благодарного Русского народа за
Куликовскую победу наименование Донского.
В
свою очередь и он увековечил память убиенных на Куликовом Поле героев
установлением их поминовения на все времена, пока будет жить Русская Земля, — в
Димитриевскую Субботу.
* *
*
Стало
исторически неоспоримым, что позади молодого Дмитрия Иоанновича и рядом с ним
стоял истинный Духовный Воевода, Преподобный Сергий Радонежский. Значение его
духовного авторитета в этой жуткой битве народов 14-го века и в этой страшной
жертве явилось знаменем победы, которую, несомненно, нужно отнести к разряду
чудесных явлений. Собственно, эти чудесные явления были и должны быть наиболее
прочными устоями и высшим смыслом для всей истории Государства Российского. Но
ныне, когда эти чудесные явления поруганы и когда целый великий народ лишился
способности радоваться, в судьбах России все выглядит уродливо, и немногим из
нас дано наблюдать в смраде современной кривды какие-либо отблески чудесных
явлений. Будущие поколения, несомненно, их увидят и учтут с великой пользой для
утверждения исторической правды, созидающей творческую душу всякого народа.
Когда
мы вслушиваемся в большую музыкальную симфонию, созданную великим композитором,
мы можем проследить, как последовательно и стройно развивается и нарастает
содержание, передаваемое гармоническими музыкальными образами. Но финал каждой
симфонии имеет свое логическое завершение, и чаще всего
торжественно-возвышенное и даже радостно-победное.
Не
таково положение современного летописца, который должен иметь дело с темой,
упирающуюся в жуткую современность.
В
начале этой книги автор, устремленный в сферу Веры, Надежды и Любви, мысленно
дерзнул коснуться даже космических законов и тайн природы. В благоговейном
славословии Творцу он благословил и Первый День Творения и малую каплю утренней
росы.
Но
вот автор этого повествования выпал из качелей своей мечты, как неоперившийся
птенец из разоренного гнезда, и упал на твердую, обнаженную бездождием,
исхлестанную бичами духовной засухи землю и очутился перед раскрытой пастью
подколодной змеи — бесстыдной и безжалостной современной действительности.
Читатель
вправе разочарованно сказать:
— Вы
занимали меня вашими описаниями Прошлого, вы рисовали мне картины исторической
духовной красоты одного из светильников Русской Земли. Вы пытались увлечь меня
в неведомые пределы Будущего, которого я, вероятно, не увижу. Но почему вы не
дали мне ни одной отрадной картинки из Настоящего?
Что
отвечу я на этот справедливый упрек?
Я
просто не решился мучить тебя, друг-читатель, современной неприглядной правдой.
Мне было стыдно обнажить рану собственного сердца и прикасаться к страшным
язвам моего народа. Но я должен это сделать, вопреки моему желанию, вместо
радостного заключения этой книги.
Не
отрицая некоторых технических достижений в области промышленной жизни,
достижений, впрочем, оплаченных ужасающей ценою жертв, — не следует замалчивать
общеизвестных фактов о разорении веками накопленных материальных и духовных
богатств, фактов, о которых ныне гораздо красноречивее говорят и пишут не
только недавние почитатели советского режима, но и участники в самом коммунистическом
опыте.
Как
один из примеров разорения, оказавшегося обратным ударом даже для самих
разорителей, будет уместно привести лишь часть отрывков из только что
напечатанных очерков очевидца, недавно посетившего Россию вообще и бывшую
обитель Св. Сергия в частности.
Этот
очевидец, М. Налетов, называет себя евреем. Если это так, то свидетельство его
приобретает особо важное значение, тем более что до сих пор, насколько нам
из-вестно, мало кто из христиан, и меньше всего из русских православных людей,
дерзнул проникнуть и столь объективно описать картину мерзости и запустения на
месте величайшей твердыни Русской Государственности — Троице-Сергиевой Лавры.
Возможно,
впрочем, что г. Налетов счел необходимым скрыть и свое подлинное имя и
происхождение, «чтобы миновать полицию».
Вот,
что, между прочим, пишет господин М. Налетов.
«Вот
и Хотьково. Отсюда 12 верст до Загорска — бывшего Сергиева Посада.
Раньше
в Хотьково был большой женский монастырь, где погребены родители Преподобного
Сергия Радонеж-ского. Монастырь давно закрыт, а с церкви сбит крест.
— В
церкви-то? А там сейчас зерно ссыпают, — объясняют мне совершенно равнодушным
голосом.
Вот
мелькнула и Троице-Сергиева Лавра.
Увы!
Громадный купол Успенского Собора без креста и имеет жалкий и нелепый вид, но
колокольня сверкает в воздухе.
Станция
«Сергиево» переименована в «Загорск», запущена и прибеднела. Двор перед
станцией, раньше мощеный и битком набитый извозчиками, сейчас заплыл грязью. Ни
одного извозчика. Все прохожие одеты «по-крестьянски». Я обхожу станцию боком,
чтобы миновать полицию.
Иду
к Лавре дорогой, по которой раньше ходили сотни тысяч богомольцев.
Мостовая
давно уже разъехалась, лишь кое-где торчат камешки. Прохожих почти нет.
«Обжорка»,
или «блинный ряд», где кутили низы местных мещан и куда заглядывали и более
веселые из богомольцев, исчезла.
Часовня,
построенная на том месте, где, по преданию, Преподобный Сергий кормил хлебом
медведя, стоит, но запущена и закрыта.
«Странноприимный
дом», в котором в былые годы монахи подкармливали неимущих богомольцев, давая
им ночлег и стол бесплатно до семи дней, — сейчас занят под «Дом Крестьянина»,
то есть попросту трактир.
Я
подхожу ближе.
Базар
вроде как был и раньше, только не видно барынь в шляпках, да и цены аховые.
— Вы
что, гражданин, из Москвы? — насмешливо спросил меня какой-то уже подвыпивший
гражданин. — Не желаете ли колбаски «И-го-го»? Жеребятинка, а не вредная. А
может быть, собачьих потрохов? Собачка была первый сорт… — Тут мне показали
на нечто лежащее на возу, очень похожее на собачьи внутренности.
Разговор
принимал оборот явно контрреволюционный, и я отошел подальше. Кто-то свистнул
мне вслед.
Дальше
шла площадь перед монастырем. До революции на ней толкалась масса народу,
кружились сотни голубей, было много лавок, и шла очень бойкая торговля игрушками.
Медведь
с кузнецом, щелкунчик для орехов, раздвижные солдатики, матрешки (13 деревянных
кукол одна в другой), груды яблок, лотки с «грешниками» (пышки) и т.п.
Сейчас
ничего этого нет — площадь заглохла и запустела.
Троице-Сергиева
Лавра — один из самых крупных и замечательных монастырей в мире.
Монастырь
основан в 1340 году боярским сыном Сергием.
В
1613 году монастырь выдержал жестокую осаду 30000 поляков, не сдался, и
собственно эта геройская защита и послужила сигналом к возрождению России после
Смутного времени. В половине 18-го века монастырю принадлежало десять меньших
скитов и до 110000 крестьян с угодьями.
Монастырский
Кремль по своим размерам несколько больше Московского и очень богат.
Крепостные
стены выше двух этажей — длиной версты полторы, и наверху так широки, что на
них могут разъехаться две тройки; имеется восемь башен, а внутри Кремль густо
застроен; там десять церквей.
Теперь
все это запущено и загажено.
Духовная
Академия (внутри Кремля) — бывший дворец императрицы Анны Иоанновны — давно
закрыта; но здание использовано: там два учебных заведения — «образцовый»
педагогический техникум и Высшие Педагогические Курсы; сад кругом сильно
пострадал.
Успенский
(новый) Собор закрыт, с него снят крест, а старинное историческое кладбище
испакощено: решетка снята, старые — по 200-300 лет — могильные плиты растащены,
часть деревьев срублена.
Самая
интересная плита, однако ж, уцелела. Петр Великий приговорил какого-то боярина
к смертной казни. Но тот успел вовремя умереть, и его похоронили с почестями.
Тогда Петр приказал отколоть кусок плиты — казнил хоть могильную плиту.
На
кладбище была усыпальница Годуновых, поражавшая своей скромностью: маленькая
деревянная часовенка, вроде будки. Эту часовенку уничтожили, в другом месте — с
противоположной стороны собора — построили новую будку, но из кирпича.
Исторически
неверно, да и стиль испорчен.
Величественная
колокольня постройки Растрелли цела, но все колокола сняты и пошли «на
индустриализацию».
Среди
колоколов был один весом в 4000 пудов!
Троицкий
Собор цел и сохранен, но открыт в качестве Музея.
Дабы
унизить религию, советская власть организовала в Лавре «Объединенный Музей»,
объединив в «комбинат»: Музей игрушек, старинный Троицкий Собор и патриаршие
покои.
Вход
для всех — один рубль. Ценнейший исторический памятник находится под
наблюдением женщин, одетых очень бедно и, видимо, полуграмотных.
Троицкий
Собор цел, но наиболее ценные иконы взяты в Третьяковскую галерею в Москве.
Мощи
Святого вынуты из раки и содержатся в деревянном ящике рядом. Тут же на стене
протокол вскрытия, произведенного в 1922 году при участии 20 человек: двух
врачей, нескольких монахов, властей и почему-то воинского караула!
Протокол
очень упирает на то, что мощи Преподобного Сергия найдены в плохом состоянии.
Вопрос
о святости христианских подвижников решается на основании их жизни и чудес.
Большевики бьют на то, что если тело сохранилось плохо, то, значит, и самая
канонизация есть лишь умышленный обман духовенства.
Бывшие
со мной посетители, молодые крестьяне, видимо, от религии отошли, но глумление
над мощами много веков чтимого Святого их коробило.
Рака
(гроб) Преподобного — в сохранности.
— 27
пудов и 1 фунт
чистого серебра! — с гордостью объясняет сторожиха.
В
Соборе раньше висел костяной шар, точеный лично Петром Великим. Шар этот исчез.
Дальше
мы перешли в ризницу, которая была перед Революцией одной из наиболее богатых в
мире; митры, панагии, посохи, все усыпанные драгоценными камнями, украшенные
золотом, большая мерка жемчугов, большой дымчатый опал, где явно виднелась фигура
человека, молящегося у креста (редкая игра природы); ризы и ковры —
высокохудожественная работа рук русских цариц, иногда многих лет усидчивого
труда и т. п.
Среди
этих предметов, представлявших большую ценность не только историческую,
особенно чтимыми, однако, были деревянная липовая чаша, потир, из которых
причащал Преподобный Сергий, а также ветхое, полуистлевшее холщовое
вретище-риза Святого.
Ризница
сейчас прибеднела: эти реликвии Святого, а также опал — и с ч е з л и.
—
Лучшего уже нет; все давно п е р е п р а в л е н о д а- л е ч е. Оставлено так, немного, — для
видимости, — сказал мне какой-то молодой парень.
Остальные
посетители (среди них не было ни одной женщины) нахмурились, покивали головами
и ничего не сказали, — но, видимо, и они думали так же.
Митрополичьи
покои — в них жил настоятель монастыря — поражают своей скромностью: заурядная
обстановка небогатой семьи.
Ценнее
лишь подарки государей: мозаичный стол, несколько китайских блюд и, самое
ценное с исторической точки зрения, — старинные портреты русских государей.
Парадная
комната — так называемый тронный зал, где государь давал аудиенции при
посещении Лавры, — обставлен с некоторыми потугами на роскошь: стоит два
десятка кресел, обитых красным бархатом.
Стены
везде, что меня поразило, оклеены дешевыми обоями.
Самые
покои, если не ошибаюсь, раньше были собственностью русских царей и построены
давно; при постройке нового дворца в 18-ом столетии — старый был передан
монастырю, а новый впоследствии тоже подарен для устройства Духовной Академии.
На
стенах покоев большевики везде развешали плакаты, гласящие, что «высшее
духовенство по роскоши своей жизни ничем не отличалось от высшего боярства».
Но
один из посетителей обратился к нам:
—
Стариканы-то жили скромно.
— Да
они все были старики — куда им там о чем таком думать, — ответил другой.
В
покоях имеется и небольшой исторический музей: ряд картин, показывающих
«эксплуатацию крестьян монахами» — сельские работы и постройка монастыря.
Одна
из картин (видимо, очень старая) показывает осаду Троицкого монастыря поляками.
Картин, вероятно, было несколько. Выставлена одна, показывающая отряд русских
воинов (а не поляков), идущих на приступ монастыря.
Имеется
модель крестьянской избы 16-го столетия. По репликам посетителей, многие мелочи
быта сохранились без перемен и до сегодня: ткацкий станок и даже якобы лучина!
— «Прожектор Сталина», — кто-то буркнул среди посетителей. Правда это или нет —
судить не будем. В деревне я не был.
В
былые годы при ризнице была небольшая, но весьма ценная нумизматическая
коллекция, одна из богатейших в России: старинные «рубли» — рубленные из
серебряных, треугольного сечения, штанг, громадные золотые пятисотрублевки,
чеканенные при коронациях царей в очень ограниченном количестве и т. д.
Этой
коллекции я здесь не увидел.
Если
она тоже «переправлена далече» куда-нибудь, было бы очень жаль.
Когда
мы выходили, я хотел дать на чай проводнице — она гордо отказалась так же, как
и Царскосельском дворце, — вероятно, я был ей противен, как чужой человек,
безразлично, по ее мнению, наблюдающий унижение одной из старейших русских
святынь.
От
посещения Музея игрушек, объединенного в один Музей с Собором и Ризницей, я
отказался.
Отказалось
и большинство других посетителей.
— А
кто вы будете? — спросил меня один из посетителей, так как я был единственным
одетым не по-крестьянски.
—
Турист из Литвы, — почему-то ответил я и добавил: — Я еврей. У вас, я слыхал,
нет разницы между народами.
В
толпе никто не отозвался.
Я
пошел. Вдогонку кто-то мне бросил:
— Их
превосходительство опоздало на хорошую должность!
Что
этим было сказано — не знаю».
М. Налетов.
* *
*
В
этом беглом и простом, но, очевидно, добросовестном описании, казалось бы,
чужого человека, заключается столько скорби и оскорбленного человеческого
достоинства, что становится стыдно за всю нашу Русскую Нацию, допустившую своим
бездействием, своей рабской покорностью перед всякой грубой силой такое
унижение величайшей из Русских Святынь, а стало быть, и всего святого вообще.
Поэтому
не мудрено, что и это мое послание обращается к пустому месту. Нет вокруг, ни
близко, ни далеко, не только русского народа как целой нации, но нет и
отдельных организованных, надежных групп, которые могли бы своим объединенным
действием срочно и практически прекратить дальнейшее святотатство и кощунство над
Святынями Русской Земли.
Зато
в величайших и «культурнейших» столицах мира на лучших бульварах, в самых
богатых магазинах мы видим драгоценнейшие предметы, принадлежавшие когда-то
Русской Короне или лично государям, а также реликвии нашей былой славы; священные
иконы, кресты, сосуды, чаши, патриаршие ризы и прочие сокровища, расхищенные из
дворцов и древних русских храмов и монастырей.
Торговля
краденным у России добром в течение этих двадцати лет в пределах России и за ее
границами, видимо, не только не наказуема, но и является почетным и, конечно,
выгодным занятием некоторой части заморского купечества.
Когда
во все это серьезно вдумаешься, то становится страшно уже не за судьбу России,
у которой все самое страшное позади, а за судьбы всего цивилизованного мира,
строящего свой «прогресс» столь странными способами. Явное бесстыдство целых
государств, хотя и прикрытое торговыми договорами и искусной дипломатией,
никогда безнаказанным не останется. Закон космического равновесия всюду найдет
и воров и их соучастников.
Кроме
того, среди русских людей, где бы они ни находились, у себя дома или за
рубежами, должны быть души и сердца, глубоко униженные и оскорбленные, то есть
и должны быть люди, не только уповающие на законы равновесия, но и взыскующие
Правды Божией и справедливости человеческой.
Пусть
же эти люди, несмотря на их малое число, несут в своих оскорбленных и униженных
сердцах самую острую, самую глубокую тоску о лучшей, более разумной и более
справедливой и плодотворной жизни, пока эта тоска не вырастет в действенную
жажду открытого протеста и в мужественную борьбу с великим вандализмом,
питающимся ложными и изуверскими понятиями о свободе, которая так скоро
превратилась для русского народа в разорение всех его святынь и в неслыханное
унижение и рабство.
Если
бы до нашего времени дожил Лев Толстой, написал ли бы он свое новое «Не могу
молчать»? И какое содержание вложил бы он в свой трагический вопрос: «Так что
же нам делать?»
Можно
с уверенностью сказать, что глубокая и отважная совесть Льва Толстого заставила
бы самого его во многом откровенно раскаяться и повернула бы его сознание в
защиту попранных святынь русской духовной культуры.
Так
это или иначе, но перед нами с новой остротой и в новой необходимости встают те
же трагические возгласы: «Не могу молчать!» и «Так что же нам делать?»
За
истекшие двадцать лет в России произошло практическое испытание идей, которыми
увлекались в течение столетия не только разрушители ее основ. Увлекаться
идеалами «свободы» и «равенства» считалось лучшим признаком прогресса и даже
благородства. Какой же это был писатель, или профессор, или доктор, или даже
сельский учитель, если он не питал себя и других революционными идеями? И все
имело центростремительное направление на вершину мира: никак не ближнего брата,
человека, но непременно все человечество хотел облагодетельствовать не только
каждый подпольный бомбист, но и каждый мыслящий студент.
И
что же мы видим? А видим, что результаты всех «завоеваний революции»,
полученные на протяжении всего лишь одного, еще молодого поколения, говорят
сами за себя с потрясающей убедительностью и неопровержимым красноречием, а
именно: тысячи самых благородных и самых бескорыстных идеалистов «практического
материализма» в первые же годы революции были этой революцией сметены,
замучены, убиты, погибли в тюрьмах и ссылках. А за последний 1937 год сотни
самых передовых творцов русской революции расстреляны на наших глазах, и не
руками контрреволюции, но руками самих же «собратьев» по… «завоеваниям
революции»…
Наиболее
«показательного» суда над революцией никакие Гитлеры и никакие мудрецы от
социологии ни выдумать, ни сотворить не смогут.
Кажется,
спорить больше не о чем. Факт и космического равновесия, и поедания змеею своих
детенышей твердо установлен.
Но
обе эти гидры: и опричнина справа, и большевизм слева — поедают и третью, их
собственную мать и мачеху, золотую середину, многохвальную демократию. Она еще
кудахчет и пытается отбиваться на два фронта, но пока что создала лишь
бессильную и худосочную Лигу Наций, и никто из всех этих трех «благодетелей» ни
свободы, ни равенства, ни братства человечеству не даровал.
И
человечество, несмотря на все блага, казалось бы, объединяющей цивилизации, от
самого обычного спокойствия теперь гораздо дальше, нежели простой и
подневольный пахарь далекого прошлого. Говорить же теперь о счастье для всех
людей — это значит издеваться над ними. Общемировое одичание дошло до того, что
все стали подрывать корни дерева, с которого едят плоды. Рубят ветви, на
которых сами же сидят.
И
получилось все наоборот, вопреки всем ожиданиям «победителей». Один из
коммунистов цинично заявляет: «Народы можно убеждать лишь пушками».
Отсюда
дальнейшее развитие «закона необходимости» — совершенно дикая логика: не только
отдельные национальные государства без диктатора существовать не могут, но и
социалистический союз народов трепещет раболепно перед единовластием диктатора.
И
вот после того как величие и многокрасочная самобытность и духовные ценности на
наших глазах разрушены в России, в Испании, в Китае и в ряде других стран, не
надо быть ни прорицателем, ни пророком, чтобы предсказать, что и остальные,
мирно наблюдающие несчастия других страны обречены на испытание огнем и мечом.
Два непримиримых лагеря, крайний левый и крайний правый, неизбежно раздавят
находящийся между ними третий и пожрут друг друга, оставивши после себя
развалины и пепелище для измученных народов.
И
снова на развалинах, в лесах и на горах, в условиях первобытности полуодичавший
человек возьмется за примитивный труд зверолова и пахаря и, быть может, на века
запомнит страшную сказку о былых плодах «практического материализма»,
разрушившего ни одну высшую культуру мира.
Но
появится ли новый Конфуций в Китае? Сохранится ли память о Будде в Индии?
Явится ли Святой Франциск Ассизский на Западе? Придет ли снова в дикие леса
Севера для новых построений Преподобный Сергий? Сбережется ли после миллионов
погибших книг Святое Евангелие?
Все
это будет зависеть оттого, сохранятся ли хоть малые огоньки от неугасимого и
вечного Света, однажды данного человеку Свыше за его святые жертвы и подвиги и
за бескорыстное служение Богу через ближнего своего.
* *
*
Да и
как сохранить и неугасимо пронести этот свет через всесокрушающие бури
современности?
Очевидно,
только заключивши его в сердца тех немногих, кто способен верить, надеяться и
любить. Эта еле тлеющая искра скорби о прекрасном, о вечном свете любви, добра
и подвига еще теплится во многих русских сердцах.
Здесь,
в свободной, демократической Америке, за по-следние десятилетия построено
русскими выходцами, главным образом рабочим людом, свыше шестисот храмов.
Конечно, сюда входит большинство храмов, построенных выходцами из Галиции,
Карпатской и Угорской Руси. Почти половина этих храмов униатские, но все они
под трехраменным крестом и все их прихожане считают себя русскими. Эта свободно
выраженная сила веры, эта любовь к древлему укладу жизни и к освященному веками
церковному обряду — сама по себе глубоко знаменательна!
Пишущему
эти строки довелось побывать примерно в трехстах русских колониях, рассеянных
по всей Америке. При всей смеси обычаев, наречий, званий и состояний, при
наличии споров и разделений, всюду яркой, светлой звездочкою теплится еле
уловимое единство основного русского начала: святая простота сердечности. Надо
уметь увидеть и понять, как эти люди, старые и молодые, мужчины, женщины, все
от сохи, станка или из шахты, из всех слоев трудового населения тянутся к
строительству своего храма; как охраняют его чистоту, украшают благолепием,
несут свои трудовые жертвы и блюдут свои обычаи, традиции, справляют
многолюдные торжества… Это не простое исполнение религиозного обряда, это
огромное социальное явление жизни, это осмысленное озарение всего их трудового
бытия. Это неодолимая сила, несокрушимый дух, и с этим-то духовным началом,
видимо, и не может совладать даже могущественная, но безбожная власть в
теперешней России. Там религия называется реакционным пережитком, а здесь — это
плод свободного волеизъявления сотен тысяч рабочего народа, и американская
власть и общество всячески это поощряют и содействуют церковному народу,
независимо от его национального и религиозного различия. Истинно
демократическое Государство видит в этом укрепление общественной морали и
политической устойчивости. Да так и должна поступать всякая разумная, честная
народная власть.
На
этой, на церковной почве ближе подошла к народу, в значительной своей части, и
наша зарубежная знать и интеллигенция. Нельзя не вспомнить, что дома, в своей
обеспеченной жизни, и большая часть знати и интеллигенции сообщалась с
народными слоями больше теоретически, а в храмы заглядывала как бы делая
одолжение Господу Богу. Кстати, нельзя замалчивать и того, что и часть нашего
духовенства в последнее столетие немало оттолкнула от церквей не только
интеллигенции, но и народа. Причин для народного охлаждения к вере предков было
вообще немало, и исходили они не от одних нигилистов. И в нигилизм и в
сектантство ушли из Православия по большей части хорошие люди, у которых,
правда, не хватало христианского терпения и смирения.
Здесь
же, в свободной Америке, народ буквально взял Церковь целиком в свои руки. Это
тяжело для духовенства, но, очевидно, так сложились здесь и судьбы и права
людей. И вот мы видим, что здесь на чисто церковной почве, вне политики, но на
основах верности своей национальной культуре начали сливаться и разные притоки
эмиграции. Старая эмиграция, пришедшая по большей части из Австрии и Славянских
стран, как это ни странно, оказалась даже более устойчивой в своей русскости,
нежели новая, которая скорее забывает свой язык и легче ассимилируется. Старая
эмиграция, по преимуществу простой рабочий люд, сумела воспитать в новом
поколении, уже определенно американизированном внешне, глубокую любовь к вере
отцов, и это поколение, организованное в «Ар-Клубы», являет собою блестящий
пример соединения в себе двух культур, русской и американской, обогащая ими
свою жизнь и радуя родителей. Новая эмиграция, преимущественно культурная,
постепенно сливается со старой и находит с нею общий язык, являя в общем мощную
силу и встречаясь под общим куполом Церкви. Дни Русской Культуры, съезды,
конференции и общие празднества являются лучшей иллюстрацией этого утверждения.
Большинство Американской Руси объединено теперь и возглавлено иерархией одного
Митрополита.
И
уже не десятки, не сотни, а тысячи лампад мерцают и хранят неугасимый свет
русскости, этой великой и многовековой державы Русского великого сердца.
Имеются,
впрочем, большие приходы, созданные исключительно культурной новой эмиграцией. Примеры: несколько приходов на Тихоокеанском
побережье, Храм Христа Спасителя в Нью-Йорке и много других, где благолепие и
благочестие блюдутся в чистоте преемственности от Русской древности.
Было
бы упущением не упомянуть и о части русского народа, стоящего вне Церкви. Это
главным образом эми-грация землеробов из западных губерний России, ушедшая в
Америку перед войной. Это мирные и неплохие люди, когда-то испугавшиеся
солдатчины и соблазненные учением анархистов. Но теперь и они постепенно
вливаются в одно здоровое русло, и если некоторые мужчины еще продолжают
поклоняться плохо сохранившимся теням Бакунина и Кропоткина, то их жены и дети
отлично ходят в церкви. А по большим праздникам и сами «анархисты» не могут
усидеть в своих далеко не пролетарских домах, превращаясь в кротких христиан и
подчиняясь яркому горенью восковых свечей и тихому мерцанию лампад.
* *
*
Короче
говоря, настоящий трудовой Русский народ не только в Америке, не только в
других свободных странах, но и при всем гонении на Церковь у себя на родине, не
может обойтись без доброго горения сердца, устремленного к Горе Света. Все
сколько-нибудь мыслящие, сколько-нибудь отдающие себе отчет в происходящем,
невольно «горе (высоко) имеют сердца».
Вот
это-то горение народного сердца и тяготение к Высшему и Доброму началу бытия и
является той несокрушимой силой, которая должна быть признана единственным
спасением России от ее морального и государственного разложения. Недаром именно
за это неугасимое горение духа за двадцать лет в России погибло столько
мужественных людей, и в том числе не только духовенство и миряне, но и часть
верных власти поэтов и писателей.
Не
смог, например, справиться с тяготением к свету Истины, народный из народнейших
поэтов Сергей Есенин. Но угашая в себе этот огонек, он не мог без него жить и
работать и покончил самоубийством.
Но и в предсмертной тоске своей он все-таки
признавался:
Опять
я теплой грустью болен
От
овсяного ветерка,
И на
известку колоколен
Невольно
крестится рука.
Не
выдержал своего балаганного шутовства даже такой циник, как Маяковский, и,
лишенный озарения своего дарования, покончил с собой.
А был талантлив, смел и остроумен, но до безумия
влюблен в себя:
И
скоро,
дружбу не тая,
бью по плечу его я.
А
Солнце тоже:
ты да я,
ведь нас, товарищ,
двое!..
За хулу на озаряющее, неугасимое горение духа даже
любимец власти, облеченный званием советского барда, «борца с Богом», Демьян
Бедный получил от Сергея Есенина открытую публичную отповедь:
Ты
сгустки крови у Креста
Копнул
ноздрей, как толстый боров…
Ты
только хрюкнул на Христа —
Ефрем
Лакеевич Придворов…
Но настоящим, не покорившимся растлению глубоким
христианином ушел из мира замученный большой поэт Максимилиан Волошин, который
пророчески и исступленно бросил в лицо всему впавшему в самопредательство
народу:
…И
Родину народ
Сам
выволок на гноище, на падаль…
О
Господи! Разверзни, расточи,
Пошли
на нас огнь, язвы и бичи:
Германцев
с Запада, Монгол с Востока,
Отдай
нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб
искупить смиренно и глубоко
Иудин
грех до Страшного Суда!
Это
было сказано задолго до того, как на нас обрушились и голод, и огнь, и мечи, и
язвы… А теперь мы видим, что нам грозит и рабство не только с Запада и с
Востока, но и из глубин нашего всеобщего внутреннего опустошения.
Примеры
этого опустошения многочисленны.
Обладатель глубоко-мистической лиры, Александр Блок,
кротко погиб под обломками своей трагической ошибки: он сделал свою ставку на
революцию и в знаменитой поэме «Двенадцать» вообразил, что революцию
возглавляет Сам Христос:
В
тонком венчике из роз
Впереди
Иисус Христос.
Вообразил
и вскоре убедился, в какое заблуждение ввел себя и других и умер от тоски и
неодолимого, невыразимого отчаяния.
Сам ужаснулся своего призыва:
Вперед,
товарищ, иди, не трусь:
Пальнем-ка
пулей в Святую Русь!..
Должен был устыдиться и отчаяться потому, что уже и
тогда, в 1918 году, обманутый народ в лице своих поэтов из крестьян совершенно
иначе оценивал «свободу»:
Господи,
Сыне возлюбленный,
Ласковый,
кроткий Исусе!
Свет
Свой яви Ты загубленной,
Темной,
страдающей Руси!
Д. Семеновский,
«Богородица»
Теперь
даже странно читать такую вещь в «Пролетар-ском Сборнике» в издании
Всероссийского Центрального Комитета Советов рабочих и крестьянских депутатов.
Но это факт.
Ныне
на лице всякого беспристрастного наблюдателя над событиями в современной России
должна появиться гримаса сарказма, когда он слышит или видит расшаркивание
«рабоче-крестьянской» власти перед сокровищами Русской Истории и Литературы.
На
экране появляются «Петр Великий», «Суворов», «Жизнь Сусанина»… В литературе
вдруг восторженно заговорили о «Слове о Полку Игореве»… Что это? Желание
по-своему перетолковать «Русскую Правду» или неодолимое тяготение к
животворящему огню духовной культуры?
И
вспоминается Старуха из драмы Островского «Гроза», над которой в свое время
гоготали беспечные сыны России. Нет, ее пророчество было нешуточное и вовсе не
смешное: «Все погибнете! Все в огне гореть будете!»
Уже
явно погибаем, уже сгораем тысячами, миллионами в том самом огне, который
похитили из поруганных лампад и которым подожгли все самое святое.
Не
одни «попы», не одни «монахи» столетиями сберегали этот огонь в тихо мерцающих
лампадах, этих малых символах великого смысла жизни. Их проносили бережно и
объясняли нам великие творцы нашей светской литературы, как Достоевский,
Лесков, Гоголь и многие другие. Теперь раздувается «революционная» ненависть к
Достоевскому, но народ молча наблюдает над его сбывшимися пророчествами. Народ
молча читает и тайно переписывает историческое письмо Гоголя к Старцам
Оптинской Пустыни.
«Ради
Самого Христа молитесь обо мне, — писал Н.В. Гоголь 26 Июня 1850 года. — Путь
мой труден. Дело мое такого рода, что без ежеминутной, без ежечасной явной
помощи Божией не может двинуться мое перо, и силы мои не только ничтожны, но их
нет без осветления Свыше…»
Кто
может замолчать и вычеркнуть из истории русской литературы этот потрясающий
документ?
Но
народ, лишенный огня мужества, молчит даже и тогда, когда вдруг «ветераны»
революции, участники убийства императора Александра Второго, справляют в 1931
году торжественный юбилей по случаю 50-летия со дня убийства Царя-Освободителя.
Не
только из дворянской, не только из буржуазной или фашистской среды, но из недр
всего простого народа, из миллионов сердец поднимается теперь чувство
глубочайшего презрения к этим «юбилярам», ибо народ увидел и своей кровью
засвидетельствовал, на какие «высоты» равенства и братства вывели его носители
такого «интеллекта».
А
тут еще один из юбилеев: 15 Декабря 1937 года в Москве «отпраздновали»
десятилетие разрушения Симонова Монастыря, основанного в 1370 году, еще при
жизни Преподобного Сергия, Его племянником, епископом Ростовским Феодором,
причисленным к лику святых.
15
Декабря 1927 года на глазах массы специально пригнанных коммунистов и
красноармейцев при криках «ура» взлетели на воздух пятисотлетние стены древней
твердыни русского подвига. Теперь это «победно» празднуется, но уже без криков
«ура». За эти годы народ научился молча принимать удары в сердце.
О
судьбе исключительно ценных книгохранилищ и архивов Симонова Монастыря молчит и
советская печать. Значит, если какие-либо «вредители», рискуя жизнью, не спасли
хоть часть драгоценнейших реликвий святого подвига, создавшего Россию, все эти сокровища уничтожены.
Народ
молчит и терпит. Но если б мог, ушел бы всеми миллионами куда-либо в леса и в
горы или в заморские края, чтобы замаливать «Иудин грех до Страшного Суда».
И
как же не понять всех тех русских людей, которые, уйдя из России, унесли с
собою только свое оскорбленное сердце да частицу веры в какую-то
сверхчеловеческую справедливость? Только эта частица веры, как слабый огонек
лампады, дает им силу жить и бороться за поруганную Правду.
Вот
почему в заключение будет уместно рассказать об одном скромном уголке в
Америке, тесно связанном с Именем Преподобного Сергия.
* *
*
Вскоре
после того, как в Москве после ряда прочих дикостей совершилось еще одно
неслыханное и не поддающееся никакому разумному объяснению изуверство —
«правительственное» разрушение Храма Христа Спасителя в Москве, а в
Троице-Сергиевой Лавре <были> сняты и разбиты колокола «для нужд
индустриализации», маленькой группе русских людей в Америке захотелось не
письмом в редакцию газеты, не выступлением на митинге протеста, а чем-то
длительным и положительным ознаменовать свою глубокую скорбь по этому случаю.
С
письменного благословения трех митрополитов: Всеамериканского Вл. Платона,
Западно-Европейского
Вл. Евлогия и Дальне-Восточного Вл. Мефодия; при духовной и материальной
поддержке сочувствующих добрых людей 3 (16) Мая 1930 г., в день рождения
Преподобного Сергия, была заложена, а к концу лета построена скромная небольшая
часовня во Имя Св. Сергия.
Часовня
построена из дикого камня в диком лесу, среди берез, дубов и елей, на пригорке,
из-под которого струится источник кристальной ключевой воды. Кругом лесистые
холмы, поблизости горная речка Помпераг, поодаль на виду большая река
Хусатоник, образующая озеро «Лэйк Зоар». И хотя вокруг на расстоянии от трех до
десяти миль находится несколько городков, местность представляет собою еще
девственный уединенный уголок штата Коннектикут.
В
течение семи лет со дня построения около часовни создалась своя интересная
история. В нашу задачу здесь не входит ее изложение, но коснуться некоторых ее
моментов следует.
В
осуществлении идеи о часовне помог главным образом известный русский художник
академик Н.К. Рерих. Этот славный зодчий русского искусства, не раз
участвовавший в храмостроительстве в больших масштабах, не только сам помог,
притом довольно щедро, но и привлек к этому маленькому начинанию некоторых
своих сотрудников. Он же набросал и рисунок часовни, по которому она была с
соблюдением пропорций построена.
Трогателен
был приезд представителей Нью-йоркского музея Рериха во главе со Святославом
Рерихом. Его спутники все были американцы, и один из них, писатель Томас Монди,
в торжественных словах приветствовал возникновение в Америке памятника Русскому
Святому.
Еще
когда тяжелые стены часовни были возведены лишь до половины, близ родника
остановился большой автомобиль. Из него вышло четверо: И.И. и Е.А. Сикорские и
два их мальчика, Сережа и Коля. Это было первое посещение русского поселка
Чураевки знаменитым русским изобретателем и его семьею. Нельзя забыть, как
маленькие дети долго выбирали покрасивее и побольше камушки, чтобы положить в
стены будущей часовни.
На
первом скромном торжестве по случаю окончания стен часовни в Сентябре было
много народу, и много ярких русских имен отмечено среди первых паломников:
супруги Сикорские, супруги Фокины, супруги Московы, М.М. Куренко, генерал Д.Н.
Потоцкий и много других. От Музея Рериха: Л.Л. Хорш, супруги Лихтманы, Франсис
Грант, г-жа С. Шафран и другие.
После
краткой молитвы в часовне на соседней лесной поляне живописными группами
расположились гости, среди которых выделялась молодежь, юноши и девушки в ярких
русских костюмах, составляя хор и оркестр.
Оркестр
и хор разместились на специально построенной большой платформе, и впервые в
этих лесистых холмах Америки раздались звуки Русского гимна «Коль Славен».
Программа
была большая и с небольшими перерывами продолжалась целый день. Были
произнесены глубоко содержательные речи представителями разных ответвлений
Русской Культуры.
Надо
было видеть затихших слушателей, когда затем из-под тенистой березы понеслись
слова одного из говоривших. «Когда-то эти камни, — сказал он, — которые теперь
лежат в стенах этой скромной русской часовни, выкапывались из этих полян и
сносились сюда трудами американских рабов-негров и, вероятно, облиты их слезами
и кровавым потом. Но и мы, новые пришельцы, несмотря на полную свободу,
существующую в этой прекрасной стране, снова окропляем эти камни своим потом и
кровавыми слезами. Ибо, если серьезно вдуматься в наше положение, оно, быть
может, тяжелее и печальнее, нежели положение Евреев, когда они уходили из Египта.
Они ушли в свои скитания из чужой страны, мы же должны были покинуть
собственную Родину. Они могли вернуться в свой родной Сион, мы же вынуждены
окроплять своими потом, слезами и кровью многие чужие земли, не имея никаких
стен ни для пристанища, ни для плача о потерянном Сионе. Очевидно, плохо мы
знали, мало любили, плохо берегли наш Сион и покрыли великим позором всю Святую
Русь, если на нашу долю выпало не только потерять ее, но и покорно и беспомощно
наблюдать, как Сион наш разрушается. Знаете ли вы, что, кроме кощунственного
разорения Троице-Сергиевой Лавры, кроме нарочитого разрушения Храма Христа
Спасителя в Москве, новые властители, оказывается, взорвали динамитом еще одну
величайшую Русскую святыню — Симонов Монастырь, тот самый Монастырь, который
был заложен в виде маленького скита тем же святым угодником Преподобным Сергием
и который затем, в 1370 году, стал обителью Его племянника, впоследствии
епископа Ростовского Феодора. А Св. Феодор был духовником великого князя
Дмитрия Донского и сопровождал его в битвах с Татарами. Что сталось с могилами
святых Пересвета и Осляби, которые погребены в Симоновом Монастыре? Что сталось
с той самой Иконою Нерукотворного Спаса, которая охраняла Дмитрия Донского на
Куликовом Поле и которая была великой многовековой святыней в иконостасе
главного Успенского Собора в Симоновом Монастыре? Что сталось с тем Сергиевым
Прудом, который своим трудом выкопал уже престарелый Преподобный Сергий во
время пребывания в гостях у своего племянника Св. Феодора? А сколько там было
могил, начиная с сына Дмитрия Донского, инока Константина Псковского,
митрополитов и иерархов Св. Церкви! Сколько великих полководцев и
воинов-героев, как фельдмаршал Мусин-Пушкин, писателей и поэтов, как Аксаков и
Веневитинов, покоились под сенью этих святынь! Сколько сокровенных, неведомых
нашим поколениям драгоценных древних летописей погребено теперь под развалинами
взрывов! Сколько веками накопленного усердного искусства и животворящих плодов
духовного подвига стало достоянием праха и пепла!
Поэтому
надо понять, как бессильны и беспомощны мы в праве и защите попираемого
Русского Сиона и как ничтожна наша дань родным Святыням, когда мы сегодня здесь
празднуем окончание строительства стен такого малого и столь убогого памятника
Великому Зиждителю Святой Руси. Но все, что мы могли бы сделать и что обязаны,
— это создать крепкое, надежное убежище хотя бы только для одной неугасимой
лампады, которая бы теплилась в воспоминание о тех бесчисленных священных огнях
Русского Подвига, которые так грубо угашаются безумною, слепою силой разрушения
на нашей Родине.
Но
возжигая этот тихий свет лампады, мы должны запомнить, что если не легко его
возжечь в чужой земле, то еще труднее поддерживать его неугасимое горение,
которому со всех сторон грозят ветры и стихии столь могущественного зла. Будем
же готовы к борьбе за этот огонек, единственное наше достояние, единственный
наш талисман, ведущий к новым, но далеким берегам обители Святых Сестер: Веры,
Надежды и Любви».
После
возведения крыши и водружения креста первая лампада была поставлена на простой
высокий подсвечник, сделанный из местных берез и жести трудами москвичей
Бодулиных (сотрудники Московского Художественного Театра).
Лампада
затеплилась перед Образом Преподобного Сергия, написанным и присланным из
Бостона в дар часовне поэтом и художником Л.В. Тульпой (питомец Московского
Университета).
Освящение
часовни состоялось только через два года, летом, при большом стечении народа
девятью священно-служителями во главе с окружным благочинным о. протоиереем
Евгением Крыжановским, настоятелем Русской Церкви в городе Ансонии. Ему
сослужили: архимандрит о. Петр Зайченко из Спрингфильд<а>, Вермонт;
протоирей о. Стахий Боричевский из Трентона, Нью-Джерси; протоиерей о. Петр
Дзюбой из Вотербери, Коннектикут; протоиерей о. И. Данкевич из Нью-Бритен,
Коннектикут; протоиерей о. И. Симоницкий из Терривиль, Коннектикут; протоиерей
о. И. Дзвончик из Стамфорда, Конн<ектикут>; священник о. Павел Лизак из
Мериден, Конн<ектикут> и священник о. Феодор Турченко из Нью-Хэйвен,
Коннектикут.
Все
духовенство, блистая золотом и серебром облачения, стало полукругом у входа в
часовню, которая служила алтарем. Тут же, сбоку, под большим дубом расположился
хор из Ансонии (под управлением Е.А. Серебренникова), и чудное его пение
разливалось в чистом воздухе золотого утра и таяло в густоте зеленого леса
вместе с ароматным дымом из кадил. Множество молящихся стояли под открытым
небом на зеленой лужайке, на камнях и под деревьями. Все это вместе
представляло незабываемую картину, напоминая праздничную подлинную Русь,
богатую скитами и пустыньками.
После
Литургии и проповедей праздник был продолжен трапезою, концертом и речами и
закончился перед закатом дня вечерним богослужением, уже при участии хора из
Нью-Бритен.
За
полгода до торжественного освящения часовни, в холодную зимнюю ночь, часовню
посетила одна замечательная русская женщина Е.Н. Шуматова (сестра известного
художника, директора Карнеги-Музея в Питсбурге А.Н. Авинова).
На
лесной поляне близ часовни при свете фонарей автомобиля на фоне группы берез
мелькнули какие-то алмазы. Это были глаза трех диких оленей. Ослепленные
автомобилем, они замерли и стояли, как изваянные, без движения.
Это
случайное видение и убогость утвари в часовне, в которую Е.Н. впервые вошла, —
так ее растрогали, что она опустилась на колени и тихо заплакала.
А
сколько слез утерли здесь украдкою не только женщины, но и мужчины. Иные
двадцать лет не бывали в церкви и случайно, из любопытства, заглянув в часовню,
подолгу оставались в ней и молча думали и плакали и что-то вспоминали. Иногда
падали крестом перед иконою Святителя, и плечи их вздрагивали от глухого, быть
может, покаянного рыданья…
Как
раз перед освящением часовни от Е.Н. Шуматовой была получена дивная, с цветными
камнями, лампада, сделанная в строгом древнем русском стиле. Эта лампада и
теплится теперь всегда в часовне.
Так
затеплился этот огонек Русской Православной Культуры в диком американском лесу.
К множеству мерцающих по всему свету огоньков прибавился лишь один, слабый, еле
видимый из-за множества удушливых газов окружающей атмосферы, но особенность
его заключается в том, что он возник как результат идейных и культурных исканий
и переоценок русского духа. На свободе эти искания открыто привели к истокам
родной, испытанной веками Русской Правды, находя ее чище и глубже и проще всех
выдуманных правд.
Часовня
Имени Св. Сергия — это страница Русской эпопеи, написанная не словами, а
гранитом, чтобы извратители чужих мыслей не смогли ее сразу вычеркнуть.
В
течение семи лет часовня Св. Сергия на Помпераге являлась духовною опорой, быть
может, для немногих, но во многом, в самом главном — в утверждении простоты и
правды истинного смысла жизни.
Не
имея около себя достаточного числа людей для образования прихода, не имея
постоянных богослужений, часовня и сейчас является одиноким памятником Св.
Сергию, к которому все больше и все чаще притекают люди и ближние и дальние.
То
заезжий художник пишет с нее этюд, то корреспондент газеты снимает фотографию.
То вдруг появится стайка русских детей, скаутов, или соколят. То целыми группами
приходят ученики ближайших школ, студенты колледжей.
То
путник в уединенном созерцании опнется на камне и смотрит в открытые двери на
мерцание лампад. То группа американцев деловито попросит рассказать об истории
часовни, о причине ее возникновения, а, кстати, и о многом, чего они не слышали
или не знали о России.
Но
проста, строга и все еще бедна в своем одиночестве часовня. Лишь над входом
привлекают взоры посетителя три дивных ангела: это Св. Троица великого
иконописца Андрея Рублева, конечно, в копии, написанной современным художником
В.С. Ивановым.
Величайший
современный русский скульптор С.Т. Коненков после посещения часовни поднес
прекрасное скульптурное изображение Христа из твердого дерева.
К
бедной утвари прибавились еще дары: две старинные большие иконы архангелов
Михаила и Гавриила — дар протоиерея о. Стахия Боричевского. Его же дары —
чудное Евангелие и старинный Часослов.
Художник
И.Ф. Замотин написал два лика: Христа и Богоматери — для хоругвей. Л.В. Тульпа
написал и поднес икону Св. Алексия, митрополита Московского (иерарха времен Св.
Сергия).
Г-жа
Е.Э. Д-на написала и поднесла копию картины Нестерова «Преподобный Сергий в
юности».
На
престоле простой деревянный крест, привезенный Вл. Архиепископом Виталием из
Подкарпатской Руси и оставленный им в знак посещения часовни.
Над
главным образом Св. Сергия красуется ручной работы крест, сделанный
металлопластикой руками А.А. Волошина и присланный им из Холливуда.
О
службе в часовне оповещает звон маленького колокола, прикрепленного к дереву. Это
дар о. протоиерея Иосифа Данкевича из Нью-Бритен, Коннектикут. Много и других
знаков внимания. Все это говорит о том, что к скромной одинокой часовне Св.
Сергия со всех концов трогательно
тянутся русские сердца. Ибо, несмотря на свое одиночество, часовня эта
безмолвно благовествует именем Св. Сергия.
Свои
настроения о посещении ее не раз запечатлены стихами. Поэт Л.В. Тульпа написал
следующие два стихотворения.
В
ЧУРАЕВСКОЙ МОЛЕЛЬНЕ
Здесь
холодок, и тень, и тишина,
И
дух сосны, и ладана, и воска.
Все
строго здесь, и прочно, и громоздко.
Душа
строителей во всем видна.
Пусть
там — вдали — томится грешный мир
В
объятьях цепких многоликой страсти,
Войдя
сюда, забудь об этой власти:
Бог
— твой Отец, и в мире ты не сир.
И
коль в душе проносится гроза,
Войди
сюда и преклони колени.
И
боль души утихнет в этой сени,
Где
прямо в душу смотрят образа.
МОЛИТВА
В
часовне каменной в час утра я молился.
В
твердыне каменной я семь свечей возжег.
В
молитве пламенной я с милым братом слился,
Что
в бурях жизненных душою изнемог.
К
престолу Божию мой слезный шепот лился:
— О,
дай нам зреть Твой вечный, тихий свет! —
В
часовне каменной в час ранний я молился
И
услыхал Всевышнего ответ!
Но если Леонид Тульпа настроился на свои стихи,
побывав в часовне, то сколь же трогательно настроение тех, кто лишь мысленно,
тоскующим сердцем, устремляется к огоньку. Вот стихи, присланные из далекой
Бразилии.
В
лесу глубоком — тихий скит…
Неугасимо
в чащах темных
Для
душ мятежных и бездомных
Светильник
радости горит…
И
ветер западный несет
Дыханье
рек и вольной шири…
О
снежной, о родной Сибири
Он
песни прежние поет…
И
там, как прежде, отражен
В
озерной глуби древний Китеж,
И в
странном сне там вновь услышишь
Его
церковный перезвон…
Когда
же красен листопад,
И
все надежды ранит осень,
И на
верхушках черных сосен
О
смерти вороны кричат, —
В
скиту лампада зажжена,
Чтоб
одинокие в дороге
Поверили
в своей тревоге,
Что
будет новая весна…
Светильник
радости горит…
И
сердце полно упований
На
то, что там, в конце скитаний,
В
лесу глубоком — тихий скит…
Мария Дорожинская
Бразилия
А
вот стихи, полученные из солнечной Калифорнии.
НЕ О БЕРЕЗКЕ…
Не о
березке… Даже — не о ней!
Не о
горах Алтайских и маралах…
И не
о цепи этих дней,
В
которых я веселой вырастала…
Не о
степях, и не об Иртыше,
Не о
ветрах с клубничным ароматом,
Не о
гусях в прибрежном камыше, —
И не
о том, что нет туда возврата;
Я не
об этом с болью говорю…
Хотя
в чужой стране, во всем огромном мире, —
Нет
ничего, что памятней Сибири,
Которой,
опьяненная, горю!
Я не
об этом с болью говорю…
Но
как понять изгнание мое?
Я —
тоже дочь снегов, лесов, душистой степи!
Но в
спину мне направили ружье,
А в
уши — те слова, которых нет нелепей.
Та
ненависть, в которой смысла нет,
Толкнула
нас на мертвый полустанок…
А у
меня был чтимый дед,
И
бабушка — из Согринских крестьянок…
Но
где бы ни была, — мне помнится всегда:
Когда
на Иртыше весенняя вода,
Черемуха
цветет, — все так же пред иконой,
Кладет
народ тяжелые поклоны,
И
кается за прошлые года.
Таисия Баженова
Сан-Франциско
А
вот еще одно посвящение, проникнутое духовным рыцарством и присланное из
средневековой Риги.
РЫЦАРИ СВЯТОГО ДУХА
Есть
рыцари со сломанным копьем
И со
щитами, согнутыми в битвах…
Их
души — опустевший водоем,
Не
помнящий о песнях и молитвах.
Есть
рыцари чужих нездешних мест,
Жрецы
давно враждебного нам храма…
На
их щите отверженном не Крест,
А
красная от крови пентаграмма…
Есть
рыцари Железного Креста,
Закрытые
опущенным забралом.
У
них в сердцах закована мечта
Стремлений
к недоступным идеалам.
Есть
рыцари, которым имя — месть,
Их
сердце ко всему иному глухо…
И
лишь одним я жизнь готов принесть —
Смиренным
рыцарям Святого Духа.
Их
жизнь убога, мудра и проста,
Душа
всегда на жертвенность готова,
Не
на щите они несут Христа,
А в
чистом роднике Живого Слова…
Ты,
давший мне глоток Живой Воды,
Смиривший
сердце Истиной благою,
С
тобой готов до Утренней Звезды
Идти
оруженосцем и слугою.
Александр Ли
Рига,
Латвия
Но
трогательнее всего, что из другого конца света, из Дании, однажды был получен
драгоценный дар: Икона Св. Сергия, собственноручно написанная Великой Княгиней
Ольгой Александровной, родной сестрой замученного Государя Николая Второго.
Освящение
этой иконы совпало с одним из архиерейских богослужений в часовне.
Преосвященный Леонтий, Епископ Чикагский (тоже привезший с собою старинную
лампаду), освящая икону, произнес проникновенное поучение перед сотнями
паломников. Появление святителя на малой паперти часовни с иконою в руках
перенесло нас в древний русский скит и соединило современность с
первоисточником, первой церквицей Св. Сергия на Маковице, близ Москвы.
Сослужили
Вл. Леонтию протоиерей о. Иоанн Козицкий из Ансонии, соборный протоиерей о.
Феофан Букетов, протоиерей о. И. Данкевич и священник о. А. Погребняк при
соборном протодиаконе о. Иннокентии Семове, а также священник о. Андрей
Кухарский.
На
память о своем пребывании в часовне Преосвященный Леонтий прислал молитвослов,
а в молитвослове свои стихи.
Преданья
старины глубокой
Незабываемой
Руси
Воскресли
здесь, в стране далекой,
В
лесистых гор пустой глуши;
Поляна
с пестрыми цветами,
Узор
затейливый верхов,
Часовня
с строгими чертами
Борьбы
с природой, в честь отцов,
И
лики в церкви преподобных,
И
аналои, и свеча,
И
вздох о дружных и о злобных,
И
отблеск Божьего луча.
Епископ Леонтий
1935,
Июля 5
И
так уже не одно духовное празднество стройно и молитвенно прошло около этой
часовни в течение семи лет. И вот это тихое горение духа около лесной часовни
на чужбине обязывает нас отнестись с глубокой серьезностью к тому, какое
великое значение для нашего смутного времени должны иметь подобные початки
духовного средоточия.
И
как было бы полезно и красиво, если бы русские люди, по примеру созидателей Св.
Сергиева подворья в Париже, избрали бы Преподобного Сергия своим Водителем в
нуждах каждого дня. Как было бы дивно, если бы находящиеся ныне во всех странах
света и сочувствующие делу духовного возрождения России россияне избрали бы
своим объединителем это Зерцало совершенного терпения.
Воспоминание
о житии Преподобного; прославление Его созидательных деяний и благого влияния
на умиротворение враждовавших между собою русских князей; Его помощь великому
князю Дмитрию Донскому в освобождении России от Татарского Ига; Его
строительство монастырей, впоследствии выросших в великие твердыни Русского
Духа и многие неисчислимые блага, Им посеянные в сердцах Русского народа, — да
вдохновят современных деятелей духовной культуры не только на добрые слова, но
и на действенное проявление своего полезного служения Русскому народу и всему
человечеству. Всякий бодрствующий Русский человек мог бы послужить врачеванию
современных душевных болезней, укреплению братской взаимности, созидательному
взаимному миролюбию и всякому трудовому, духовному и культурному преуспеянию
Русского народа как на Родине, так и в рассеянии сущего. Вместе с тем каждый
деятель истинной культуры мог бы удержать ближнего своего от отчаяния, от
упадка духовного, от неправды и враждования, от апатии и равнодушия к вопросам
Истинного Просвещения. Тогда никакие «авторитеты» и «столпы» атеизма не смогли
бы разрушить нашей веры, ибо без восхищения духа, без веры в Высший Закон Бытия
невозможно какое-либо благое созидание на земле.
Пусть
же один из величайших светочей древлей и Святой Руси, Преподобный Сергий,
Радонежский Чудотворец, своими бессмертными примерами святого подвига поможет
нам сотворить чудо построения нашего нового, более счастливого грядущего дня.
И
как было бы чудесно, если бы во всех странах мира, где есть русские люди,
возникли бы хотя бы самые скромные, самые бедные часовенки, посвященные Имени
Св. Сергия, и в них затеплились бы огоньки неугасимых лампад. А Сам Преподобный
укажет дальнейшие пути ко благу и снова поможет светлому и уже незакатному возрождению
Святой Руси, ныне несомненно вступающей на великий путь служения всему
потрясенному человечеству.
Ибо
мы не можем не верить, что Добро Мира настолько абсолютно, что зло, в конечном
результате, только испытание Добра.
Мы
не можем не надеяться на то, что после всякой бури должен наступить и ясный
солнечный день, столь необходимый для всякого труженика как на ниве трудовой,
житейской, так и на Ниве Божией.
И мы
не можем перестать любить свой родной народ, особенно когда он в заблуждении,
нищете и унижении. Мы не можем не любить и самую мечту о его грядущем благе.
А
веря, надеясь и любя, мы твердо знаем, что от лампады к лампаде возгорится
радуга ликующей, радостной победы Света.
Опять
в полуночной тиши,
В
час казни, безнадежный час,
В
час умерщвления души,
Раздастся
мощный глас.
То
грянет колокола звон
Для
тех, кто в тьме изнемогли,
И
позовет, разбудит он
Всех
и во всех концах земли.
Раздастся
он в лесах Аляски,
Ему
откликнется Синай,
И
отголоском древней сказки
Проникнет
эхо на Алтай.
А за
Алтаем к чуду-звуку
Урала
склонится глава,
И
грешную протянет руку
К
Престолу Божию Москва…
И
вся покроется крестами
И
жгучим тернием земля,
И
кто-то робкими устами
Прошепчет
возле стен Кремля:
«О
Русь, Вселенская отныне,
Ты
будешь дочерью Небес,
Ибо
и в попранной Святыне
Христос
Воистину Воскрес».
* *
*
Заканчивая
это скромное и далекое от совершенства рукописание, автор его должен прибавить,
что с грустью расстается с теми настроениями, которых он не мог как следует
здесь воплотить. Ибо самое главное, самое высокое всегда неуловимо, недоступно
для нас, смертных.
Но
всякий человек всегда живет надеждами на лучшее будущее если не для себя лично,
то для тех, кто этим будущим воспользуется после нас.
Правда,
будущее часто манит нас и еще чаще обманывает. Но счастлив тот из нас, кто это
будущее так или иначе подготавливает, строит его в настоящем, опираясь на
неувядаемое прошлое. Ибо в этом есть та связь непрерывной цепи бытия, которая
соединяет нас с Вечностью.
В
простоте этого доброго устремления к построению Духовной Обители Света,
освещающей, радующей и согревающей всех людей, не разделяя их на нации и секты,
в глубокой и действенной любви к ближним и к дальним, к своим и к чужим, в
благодарности к добрым и в сострадании к не-добрым, — в этом и есть великое утешение,
которое целительным бальзамом успокаивает боли всякого скорбящего сердца.
В
этом же устремлении к Свету куется и тот меч пламенного мужества, в котором все
мечи из стали и железа мгновенно расплавляются.
Если
бы научиться такой любви и вместе такому мужеству! Если бы научиться терпению и
неустанному созидающему труду, — какую дивную Обитель Радости, какую
неразрушимую Лавру Бытия мог бы построить каждый человек в отдельности, а тем
более целый великий народ.
С
этой молитвенной надеждою на всеобщее духовное оздоровление, еще раз с
благоговением оглянемся на подвиги великих праведников и подвижников Русской
Земли и, оставаясь до конца верными своему родному дому, своей чистой и
неповрежденной Вере, понесем же радость и любовь другим народам. Ибо в этом,
только в этом, вся живоносная мудрость и сила Истинного Учения Христова.
И
чтобы не быть беспомощными и одинокими в этом устремлении, будем чаще и
проникновеннее обращаться к одному из испытанных веками воинов Христовых:
—
Святый отче Сергие, помоги нам!

 г. Барнаул, ул. Молодежная, 5
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5