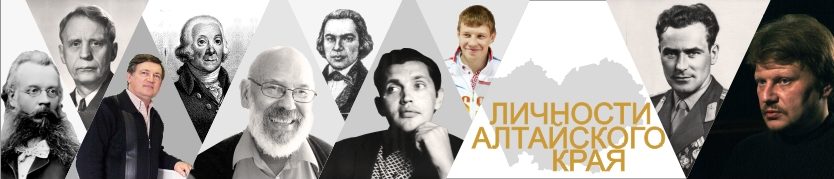«Красная книга ремесел» Александра Родионова
1. На сколько поколений крестьянской семьи хватало русской избы – деревянного дома, построенного способом ручной рубки?

Русская изба – это главное сосредоточие жизни крестьянской России, в том числе и переселенческого Алтая. Деревянные бревна – самый ходовой материал для строительства изб в нашей стране, богатой лесом. Рубленного деревянного дома хватало для жизни трех поколений одной семьи, если считать, что время жизни крестьянской избы составляет не менее ста лет. Подавляющее большинство населения страны еще сто лет назад жило в деревенских избах. «На берегу Катуни ощущение неприютности несколько рассеялось. И не потому, что мне вдруг открылась из-за туч сияющая вдалеке Белуха. Нет, на берегу стали встречаться избы, срубленные от нижнего венца до самого конька из круглого леса. Вечером я вспоминал эти избы…»
2. Чем было вызвано безгвоздевое строительство бревенчатых домов на Алтае до революции?

В дореволюционное время гвозди были очень дороги для крестьянского кошелька, особенно самоковошные, поэтому и старались обходиться без них. Впрочем, гвозди при рубке избы были и не нужны. Но возвести над срубом крышу без них сложно, однако мастера умели и это, орудуя лишь одним топором. «И все-таки я нашел безгвоздевую кровлю… Наутро я вернулся к старой избе. Обычно бревна, не толстые и не тонкие – в меру, но кровля избы отличалась от всех соседних, ее лиственничное дранье прижималось к скелету крыши двумя толстыми жердями. Съехать жердям вниз не позволяла доска с проушинами. Не было на свесах кровли «куриц» – загнутых корневищ, которые поддерживали бы водоточник, а он держался на врубленных в концы стропил клиньях. В общем, для того чтобы считать кровлю редкостной, ей многого не хватало, но главное все-таки было – крыша была без гвоздей»
3. Какие породы древесины использовались на Алтае для украшения внешнего вида избы?

С этой целью на Алтае применялись прежде всего хвойные породы древесины, а именно: сосна, кедр и лиственница. Хвойные леса широко распространены на Алтае. Причем по широкому распространению лиственница занимает среди хвойных пород первое место: ее больше ели, сосны и пихты, вместе взятых. Она стойка к гниению и морозам. Изделия из нее, найденные при раскопках на Алтае, пролежали 25 веков. Колеса боевых колесниц скифов были изготовлены также из лиственницы. Домовая резьба из древесины лиственницы с годами напитывалась смолой и становилась похожей на янтарь. «Какую резьбу я ожидал встретить, направляясь в Верхний Уймон? Скорее всего северорусскую. Небезызвестно, что староверческий Уймон да и многие другие окрестные села начинались руками выходцев из северных областей России.…Уймон открывается из-за невысоких скал, проглядывающих сквозь белостволье березняка. Березняк широко размахнулся, разросся по низким террасам Катуни, уступая место тальнику у самой воды. А взглянешь на горы – там нежно-бурый по весне плотный покров лиственниц, чем-то похожий на медвежью шубу. В таком лесном окружении привольно мастеровому человеку, привольно его рукам, привыкшим ладить топором жилье, баню, конюшню, мастерить домашнюю утварь. В умении уймонцев толково обращаться с деревом лучше всего убеждаешься, проходя по центру старого села, где свежая желтизна новых срубов соседствует с медово-медным цветом давнишних построек».
4. С какой основной целью в далеком прошлом украшали окна своих домов наличниками их хозяева?

Каждый хозяин старался защитить свой дом, обеспечить семье тепло, безопасность, здоровье. Наличники не только закрывали щели в оконном проеме, но и защищали дом от нечистой силы, привлекали энергию добра. В прежние времена окна на фасаде дома воспринимались как глаза на лице человека. Их старались украсить наличниками и ставнями. Изначально наличники закрывали соединительные швы между оконной рамой и срубом, тем самым защищая от сквозняков, холода, шума. Поэтому прежде всего хозяева украшали свои жилища с целью защиты, а во вторую – с целью привнесения в свою жизнь красоты. Русская душа жаждала красоты. Украшение наличников прошло долгий путь от декоративного оформления только верхней доски до сложного рисунка деревянного кружева всего оконного прямоугольника. «О русской избе сказано немало прекрасных слов, но мне более других по душе глубина языческого проникновения в образ избы-подвижницы, достигнутая, обретенная поэтом Николаем Клюевым: Изба-богатырица, Кокошник – вырезной, Оконце, как глазница, Подведено сурьмой. Кругом земля-землища Лежит, пьяна дождем, И бора-старичища Подоблачный шелом. ……………………….. Седых веков наследство Поклон вам, труд и пот!»
5. Какое значение имел растительный орнамент в украшении домов на Алтае?

Растительный орнамент считался символом нарождающейся жизни и плодородия. Например, ветка сосны означала вечную жизнь, непреходящую юность, а ветка вишни – немеркнущую девичью красоту, которая должна была приворожить любовь. Орнамент яблочек и слив должен был принести живущим в доме жизненную мудрость и здоровье. Виноградный мотив означал долговременную, верную любовь. «Упругий трилистник, росток, напоминающий широким основанием колоколоподобную юбку богини плодородия», и цветочные гирлянды выражали радость и полноту жизни, праздничное упоение всеми дарами, что сулит жизнь. «Ворота, на первый взгляд, в самом деле мало соответствовали облику дома [г. Бийск, ул. Шевченко, 5]. Но достаточно было приблизиться к ним настолько, что стала различима резьба, и я тут же прекратил поиски несоответствия. В конце концов почему бы и не быть воротам праздничнее, коль через них лежит путь в дом, почему бы им своим радостным убранством не предвосхитить радушие обитателей дома. Казалось, сам воздух у ворот был пропитан присутствием двух цветочных гирлянд, слегка провисших от собственной тяжести. Цветам было просторно и привольно, им не мешали ни колонки, ни фигуры точеных ваз на столбах. Внимание сосредоточивалось только на их плавном встречном взлете к центру, и только почувствовав эту свободу, можно было вглядеться в каждый отдельный лепесток цветка. Тщательность отделки листьев, лепестков сообщала им жизненность, дыхание и, может быть, именно эта скрупулезность говорила о присутствии здесь той самой бажовской «живинки в деле», когда ремесло переходит в искусство».
6. Какому существу в алтайской деревянной резьбе повезло больше других, так как его чаще других можно увидеть в орнаменте?

Птицы – разные – царили в деревянной резьбе домов и на селе, и в городе. Каких именно птиц можно было встретить? Например, утку. В русской орнаментике утка – хозяйка земной воды – играет не последнюю роль посредника между небесной влагой и земной растительностью. Не редки были экзотические и мифопоэтические птицы – грифоны, чудовищные крылатые ящеры и собаки (симарглы), охраняющие посевы от диких животных (от злых сил). Чуть меньше реальных и сказочных птиц повезло другим существам, вышедшим из рук алтайских чистодеревщиков, – коням, змеям, приносящим влагу, и русалкам (берегиням), хранительницам влаги… «[Птиц] чаще всего можно увидеть на верхней доске наличников. Птичий мир в резьбе разнообразен: утки, голуби, петухи, орлиноголовые существа… Но интереснее всего такие птичьи пары, где отсутствует точное воспроизведение контура голубя или утки, а есть только сама идея птицы. Где на первый план выступает небесность, нездешность, сказочность. Вероятно, сказочностью поддерживались и сохранялись в народе образы крылатых драконов… Драконы устремлены друг другу навстречу, их клювы почти соприкасаются. И у того наличника, где резчику захотелось оставить овальный просвет между клювами, невольно вспоминается легенда о том, как утреннее солнышко выкатывается из пасти одного дракона и, покатившись по небосклону, на закате исчезает в пасти другого».
7. Какой город на Алтае наиболее богат домами и усадьбами, украшенными резными орнаментами?

К несчастью, майский пожар 1917 года в Барнауле уничтожил многие памятники городской архитектуры XVIII–XX веков, в том числе и украшенные резьбой деревянные постройки, появившиеся в довольно узкий промежуток времени: 1890–1917 годы. То, что осталось – лишь малая толика былого великолепия. И, к счастью, старый Бийск сохранил дома и усадьбы, украшенные деревянным кружевом. Бийская деревянная резьба украшает наличники, фронтоны, карнизы, крылечки, ворота… Специалисты отмечают огромную заслугу в развитии бийского резного декора уроженца Сросток Архипа Александровича Борзёнкова, руководившего до революции крупной иконописной мастерской, в которой трудились мастера и их ученики – плотники, столяры, резчики, живописцы, позолотчики. Работу бийских резчиков отличали развитый вкус, чувство меры и сочетание в своем творчестве традиционных сюжетов с модными веяниями в орнаментике. «…Да, Иванов [Пантелей Яковлевич Иванов, один из мастеров А. А. Борзёнкова] – тот резчик добрый. Сейчас, поди, и нет таких. Я все любовался, как он работал. Приколет припорх [рисунок узора] на заготовку и пошел быстро иголкой по нему… Впервой глянешь на это занятие – ничего не поймешь. Понятно становится, когда он мешочком с угольной пылью весь припорх простукает, припорошит и уберет его с доски. Вот тут весь узор, как есть, и обозначится! В дело долото идет, киянка. По всем главным линиям возьмет на одну глубину, потом зачищает углубления долотом. Узора почти не видно, так, только наметится. Уж потом начинает отваливать – с острых ребер фаски снимать. Где листья наметил – там побольше выбирает, где цветок – там повыше остается. А как подберется к деталям – только успевает стамески менять: где прямой, где овальной, где пошире, где поуже…».
8. Какой камень Колывани принес ей поистине всемирную славу?

Гора Ревнюха, расположенная в Змеиногорском районе Алтайского края, стала колыбелью для многих удивительных произведений из зелено-волнистой яшмы, разъехавшихся по всему миру. Вазу из ревневской яшмы высотой 292 см можно увидеть в Парижской ратуше – это подарок Александра III городу Парижу. Саркофаг Александра II в Петропавловском соборе так же изготовлен из зеленой яшмы. Восемь монолитных колонн в залах Нового Эрмитажа. Две колоссальные овальные чаши в холле Эрмитажа, одна из них, изготовленная в 1819 году, была предшественницей «Царицы ваз», ставшей украшением Эрмитажа. Николай II преподнес из яшмы вазу американским банкирам. Сейчас ее можно увидеть в фондовой бирже Нью-Йорка. Во дворце Мира в Гааге «яшмовая ваза» красуется с 1913 года. В скверах Барнаула, Змеиногорска, Рубцовска, Киева, Москвы, Санкт-Петербурга можно увидеть колыванские вазы из яшмы. «Через несколько месяцев после поездки в горы из Колывани в Барнаул привезли готовую вазу из ревневской яшмы. Ту самую, что «ревела» в станке на всю заводскую округу. Вазу извлекли из ящика, и в ее широкое горло потек барнаульский воздух. Однако ему не дали застояться в таком редкостном вместилище, а подарили городскому Дворцу бракосочетания. В одном из барнаульских скверов к тому времени уже возвышалась ее предшественница, изготовленная тоже из ревневской яшмы, только годом раньше – к двухсотпятидесятилетию краевого центра».
9. Какое произведение Колыванского камнерезного завода изображено на государственных символах Алтайского края?

Большая Колыванская ваза, называемая «Царицей ваз», изображена на гербе (с 1 июня 2000 года) и флаге (с 6 июля 2000 года) региона, а также на ордене «За заслуги перед Алтайским краем» (с 16 августа 2013 года). Произведение камнерезного искусства Алтая первой половины ХIХ века экспонируется в Государственном Эрмитаже. Самая большая ваза в мире (размеры: чаша – 506х324 см, высота – 258 см, вес – 19 т 600 кг) выполнена из зелено-волнистой яшмы Ревневского месторождения. «…На Алтае под горой Ревнюхой, начиная с 1824 года, обрабатывалась обсечкой будущая семиаршинная чаша из зеленоволнистой яшмы… Глыбу ревневской яшмы в 1831 году тысячеголосая артель горняков под «Дубинушку» два месяца волокла на Колыванскую фабрику, а затем из овальной каменной «булки» камнерезы высвободили настоящее каменное чудо – «Царицу ваз», равной которой и по сей день нет в мире».
10. Какие произведения колыванских камнерезов имеют флорентийские корни?

Флорентийская мозаика, пришедшая в Россию при императрице Елизавете Петровне, – панно из шлифованных пластин полудрагоценных камней. Можно назвать несколько примеров флорентийских мозаичных панно, выполненных мастерами Колыванского камнерезного завода и имеющих барнаульскую прописку. Прежде всего, полотно «Труд и природа Алтая», изготовленное в 80-е годы прошлого века по эскизам художников Георгия и Ольги Алексеевых и украшавшее снесенное здание речного вокзала. Увидеть флорентийскую мозаику по эскизам Георгия Алексеева «Молодость Алтая» можно во Дворце культуры моторостроителей, панно с изображением писателя, кинорежиссера Василия Шукшина в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая, монументальные панно по эскизам художника Николая Зайкова в Алтайском государственном музыкальном театре. «И тут нужно отдать должное Георгию Алексееву – он увлек своим замыслом молодых заводских художников Александра Дербенева, Олега Демидова, Сергея Плюхина и Владимира Сопрыкина. Они были исполнителями огромного камнесамоцветного полотна – мозаика занимает сорок пять квадратных метров. Для камнерезов это был первый опыт – первая школа работы над монументальным заказом. А чувствовать и понимать камень этих ребят учить не надо. Они способны его одолевать и понимать с юношеских лет – с тех дней, когда овладевали искусством камнеобработки в Нижне-Тагильском училище. Если кто-то думает, что руки камнерезов грубы, что эти руки не обладают чуткостью – то крепко ошибается. Я не знаю рук более нежных, чем руки камнерезов…».
11. Какое историческое событие прошлого века способствовало возрождению на Алтае кустарных гончарных мастерских?

Великая Отечественная война невольно повлияла на возрождение, пусть и кратковременное, кустарных гончарных мастерских и на Алтае, и по всей России. Посуды в войну стало мало, поэтому гончарни ожили и заработали почти в ту же мощь и силу, что и до индустриализации страны. Многие сибиряки вспоминали, что встречали победный май с глиняными стаканчиками и кружками, произведенными в алтайских гончарных мастерских. И вплоть до 50-60-х годов прошлого века продукция кустарных гончарных мастерских была востребована в народе. А. М. Родионов в «Красной книге ремесел» описывает свой разговор с гончаром Иваном Демьяновичем Воиновым из села Лебяжье Егорьевского района, учившимся ремеслу у Михаила Дмитриевича Улитина, уроженца города Бузулука Оренбургской области. Фрагмент из него: «Меня в сорок четвертом ранило – комиссовали… Вернулся я, а кругом-то люди помнят – гончарил я до призыва на действительную. Давай, дескать, Иван. Давай, принимайся. Посуду – где ее купишь? Не один я домой инвалидом пришел. Нас, фронтовиков, кто с ранением, в одну артель при лесхозе объединили. Называлась артель «Костыль». Это сейчас, может быть, смешно, а тогда не до смеха. Кто в столярку, кто плотником, кто корзины из тальника плести. Помогли мне мужики гончарку срубить, горны я сам сложил…».
12. Какое село в Курьинском районе Алтайского края дало название посуде, которую изготавливали местные гончары?

Колывань Курьинского района известна не только своими мастерами камнерезного дела, но и гончарами, чьи крынки, прозванные колыванками, были популярны не только в Сибири, но и в Китае и Монголии. Колыванские гончары поставляли их на популярные в народе ярмарки. Колыванками называли горшки для замеса теста с раструбообразным (тюльпанообразным) туловом, дно которого уже верха. Специалисты считают, что форма такого вида кухонной посуды сложилась под влиянием переселенцев с Украины, где она бытовала под названием «макитра». Александр Михайлович Родионов в своей книге пишет, что в одной Колывани работало несколько гончарен. «Я пытался понять, почему гончары облюбовали именно это место. Лес начинался близко. Значит, дрова для обжига далеко везти не надо. Речка тоже рядом. Но самое главное – глина. Где брали свое сырье колыванские гончары, я так и не узнал. Спросить уже не у кого. Забылось ремесло. Но, видать, хорошо ладили с глиной колыванцы, если даже слово такое пошло в язык – «колыванка». Оно, конечно же, родилось здесь, на гончарном круге, на ярмарке, и, замечу, забегая вперед, разошлось по Западной Сибири даже шире, чем сами глиняные колыванки. Оно пошло так широко, что не могло быть не замечено составителями словаря «Сибирских народных говоров», изданного в Сибирском отделении Академии наук. Слово это не могло родиться ни в селе Колыванском под Барнаулом, ни в городе Колывани Новосибирской области, ни тем более в Таллинне – бывшем старорусском городе Колывани. У слова «колыванка» есть точная гончарная родина – горная Колывань».
13. У какой категории жителей Алтая были наиболее крепкие традиции преемственности гончарного ремесла?

Этнограф Виктория Анатольевна Липинская, на мнение которой ссылается А. М. Родионов в своей книге, утверждала, что именно старообрядцы славились крепкими традициями в гончарном деле. Это наблюдалось у тех из них, кто переместился на территорию Алтайского горного округа из Архангельской и Пермской областей. В этой среде гончарством занимались исключительно женщины. Именно они передавали секреты гончарного ремесла по наследству от матери к дочери. Женщины-староверки лепили посуду как без гончарного круга на любой плоскости, как его предтече, так и на простейших кругах техникой кольцевого налепа. «У старообрядцев, особенно у так называемых «поляков», отмечается непримиримая ревность к чистоте посуды. Думаю, что многим известен обычай, когда в доме старовера гостю дают мирскую кружку, но не свою. И все потому, что мирской человек может осквернить предметы, поскольку он другой веры. А коли так, то какая женщина-староверка пожелает иметь в доме посуду, изготовленную или купленную иноверцем? Вот и получается – лучше пусть будут горшки, чашки и даже сковороды своей выделки, чем через эти предметы подвергаться обмирщению. Пусть будут даже хуже исполнены, пусть примитивно, но свои, чистые!».
14. Какое испытание устраивали мастера-кузнецы подмастерью, благословляя его на самостоятельную работу у горна?

Конечно же, подковать коня самооткованными гвоздями и подковой! Об этом увлекательно пишет А. М. Родионов в «Красной книге ремесел», вспоминая свой разговор с деревенским кузнецом Василием Зениным: «– А ты помнишь, с каких пор стал самостоятельно кузнечить? – Год, что ль вспомнить? – Нет, не год. А когда ты, ну, один на один с железом у наковальни оказался? – Ха! Какой кузнец этого не помнит. Старики мне тройное испытание перед тем устраивали. Первое – отковать гвоздь с одного нагрева заготовки. Не успел – ходи в молотобойцах. Второе – подкову сделать. Третье – коня подковать! Своей подковой, своими гвоздями. – И ты все в один присест одолел? – Не в один, но одолел. Правда, мои воспитатели-испытатели правила приема нарушили. – Как нарушили? – Запросто. Коня куют обычно в станке. А они стоят на своем – в станке и дурак подкует. А вот у тебя конь в степи на дороге разулся. Подкуй! – Подковал? – На полорукого, что ль, напали? Конечно, подковал! Что я, не видел, как это делали? Заднюю ногу коню подогнул, захлестнул ее у бабок хвостом, копыто себе на колено – и пошла работа. Правда, и я смухлевал. – В чем? – Да коня знакомого на тот экзамен позвал, чтоб фокуса какого не выкинул. Спокойный был конишка».
15. Что символизирует собой кованое кольцо на калитке?

Кованые кольца были и остаются, но уже реже, важными элементами художественной ковки. Используемые в самых разных конструкциях, от калиток и дверей до мебели, кольца выполняют и функциональную, и декоративную роли, создавая уникальную ауру пространства. «Калитки… Мало ли их, простых тесовых или украшенных резьбой, но все реже и реже блестит на них кованое железное кольцо. Кольцо на калитке – это последний предмет, к которому прикасается уходящий из дома, и в то же время это – первый предмет, которого касается рука входящего. Люди уходят из дома и возвращаются. Замыкается круг. Круг дневной, круг многодневный, круг многолетний… И какой бы протяженности и длительности он ни был, сколько бы событий судьба не вмещала в него – кованое кольцо на калитке остается последним и первым предметом при расставании-возвращении в дом. Оно ожидает идущего. Оно как бы символ бесконечности земного пути…».
16. Какая улица в Барнауле богата старыми домами, украшенными кованой резьбой?

Александр Михайлович Родионов любил гулять по улицам и переулкам старого Барнаула, Бийска, Камня-на-Оби, обожал рассматривать железные украшения домов – кованые навершия башен, шпили с флюгером, парапеты, карнизы, водостоки, дымники, ограды, арки ворот, калитки, лестничные ограждения, балконные и оконные решетки, навесы над крыльцом и кронштейны, их поддерживающие, дверные петли, навесы и кольца. Они были разные – попроще или посложней, но их объединяло стремление кузнеца сделать жилище и пространство вокруг него приветливым и красивым. Писатель отмечал, что «Алтай трудно назвать краем знаменитых кузнецов», однако отдавал должное их труду, мастерству и вкусу. «…Люблю улицу Анатолия в Барнауле. Она, как никакая другая в городе, населена старыми домами с деревянными и жестяными карнизами… И еще за то, что на этой улице можно встретить лаконичные и выразительные кованые кронштейны. Задержусь на минуту у дома 152, где в треугольник вписано сопряжение спиральных завитков из полосового железа. Тут не нужно особого мастерства. Мне даже кажется, что кузнец спешил и там, где соприкоснулись завитки спиралей: он соединил их не скобочкой, не заклепкой, ни тем более кузнечной сваркой, а стянул болтами. Даже болты разные. Головка граненая, головка круглая. Но не в этом дело. Если смотреть на кронштейны издали – эти следы слесарной торопливости неразличимы, просто незаметны. Различимы лишь легкие силуэты красивых деталей навеса над крыльцом».
17. Какая вещь, украшенная орнаментом, сопровождала человека всю жизнь?

Вышитые полотенца, приготовленные девушками в качестве приданого и демонстрирующие их трудолюбие, усердие, вкус, играли важную роль в обрядах жизненного цикла – родильных, свадебных и похоронных. Ритуальные полотенца выполняли функцию оберега, оповещения, жертвы, символа соединения и т. д. Полотенцем укутывали новорожденного, его же подвешивали над колыбелью для оберегания сна младенца. В период сватовства в знак согласия в достигнутой договоренности представители жениха и невесты вручали друг другу особые полотенца. Полотенцем покрывали голову невесты в день ее девичника. Невеста дарила жениху свадебное полотенце, украшенное символическим орнаментом, в фигурах которого «читалось пожелание согласья, любви, продолженья жизни. Такое рукоделье никогда не могло предназначаться для утирания, а было знаком чистоты отношений между супругами». Гостей на свадьбе (и не только на ней) встречали угощением, положенным на полотенце. Ими украшали свадебный поезд, на котором жениха и невесту везли в церковь на венчание. Часто во время венчания молодые стояли на полотенце, расстеленном около аналоя. На полотенцах опускали домовину (гроб) в могилу. Ими же украшали кресты на могилах. «Всякий ли русский ныне задумывается над тем, что полотенце сопровождает его от рожденья; младенца принимала повитуха на приготовленную ширинку, что главный подарок в день великого события – женитьбы – это тоже полотенце. И в могилу нас опускают по русскому обычаю – на полотенцах».
18. Каковы излюбленные цвета русских, алтайских вышивальщиц?

Вышивка – один из древнейших видов русского народного творчества. Традиционным подарком являлись полотенца, украшенные вышивкой. Красный цвет вышивки был символом тепла, огня, крови. Он означал защиту человека от злых сил. Как правило, вышивка красным цветом располагалась по краям одежды и на поясе, представлявшем собой некий круг, оберегавший человека от сглаза. Сочетание красных ниток и белой ткани символизировало соединение мужского и женского начал, то есть гармонию жизни. Черный цвет – основа жизни. «Возвратившись домой, я как следует выстирал свою находку и еще влажную расстелил на столе. Излюбленные цвета русских вышивальщиц – красное с черным – ожили в полную силу. Крестообразный стержень цветка и его контур были вышиты черными нитками, а поля лепестков полыхали неистребимо красно, как бы говоря о вечном красном лете, восхитившем ту женщину, что скромно вышила над узорчатым концом полотенца две красных буковки «ВН». «Вечное лето на белом холсте, вечное красное лето», – бормотал я про себя, разглаживая вышивку».
19. Какая геометрическая фигура, означающая женское начало, украшает вышитые полотенца, предметы одежды?

Ромб, один из любимых знаков в славянской традиции, – древнейший символ плодородия, связанный с женским началом. Ромб – знак земледельцев, урожайности полей, символ потомства. Материнская любовь – самый сильный оберег. У славян считалось, что семья, охраняемая ромбами, всегда будет многодетной и жить в достатке. В православной традиции ромб является символом чистоты помыслов и действий. «Три с лишним тысячелетия отделяют нас от трипольских времен, когда впервые на территории Древней Руси появляется такой символ – ромб, означающий женское начало, а где-то в народной памяти живут заповедные знаки и их древний смысл. Ведь точно такие изображения встречаются на славянских украшениях в кладах, которые ученые находили сотни лет спустя на пути татарского погрома. Ромбоидальные геометрические фигуры, совершенно аналогичные тем, что покрывали средневековые славянские украшения, почти без изменения очертаний перешли на предметы крестьянского быта – полотенца с вышивкой».
20. Что украшало многие домотканые пояса?

Тканые пояса украшались не только геометрическими орнаментами, но и «письменной речью». У алтайских старообрядцев, например, у староверов-«поляков» такие пояса звались «именными» или поясами «со словесами». Встречались пояса-молитвы, пояса-обереги, пояса-письма, пояса-пожелания, пояса-признания, пояса-дарения… Иногда в тексте нерелигиозного содержания на одном поясе могли сочетаться и признание, и пожелание, и дарение. Текст на поясе, считают специалисты, является символом декоративно-прикладного искусства наравне с орнаментом, только в отличие от последнего текст – отражение социального начала. «…Чаще всего на опоясках и поясах вытканы добрые слова, традиционные благопожелания, а иногда и маленькие поэмы… «Сей пояс ткан – птичка, важный голосок, отнеси мой поясок тому, кто мил сердцу моему!». «Сей пояс принадлежи Евдинее неси добереги милка не марай в буденечки скидовай»… «Пахнет в воздухе весной, зацветает садик мой и запел среди ветвей соловейко соловей».

 г. Барнаул, ул. Молодежная, 5
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5