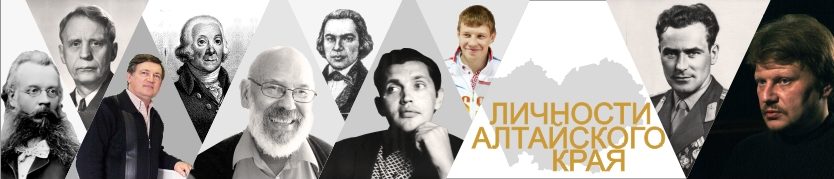2008
2008 – Ушел из жизни автор повести «Последний тайфун» Виталий Степанович Шевченко (20 октября 1922, с. Рашевка Полтавской области, Украина – 28 февраля 2008, Барнаул), участник военных действий против Японии. В книге «Последний тайфун» (1987) нашли отражение воспоминания автора о боевых действиях на Дальнем Востоке.
Из предисловия А. Белобородова, генерала армии, бывшего командующего 1-й Краснознаменной армией 1-го Дальневосточного фронта, дважды героя Советского Союза: «Это может показаться невероятным, но в войне с Японией есть направление, которое не получило фактически никакого отражения в художественной литературе. А между тем под ударами наступающих из Приморья войск 1-го Дальневосточного фронта Квантунская армия только убитыми потеряла намного больше своих солдат и офицеров, чем потеряно ею на всех остальных фронтах от Хингана и Монголии до Порт-Артура, от Амура до Мулинхэ, от Курильской гряды до Кореи. Командующий 1-м Дальневосточным фронтом Маршал советского союза Кирилл Афанасьевич Мерецков напишет потом:
“Если говорить о Приморье, где предстояло воевать, мне «повезло»: возьмите некоторые укрепления Маннергейма, добавьте к ним карельские леса (только погуще), бездорожье Заполярья, болота Новгородской области и восточный климат, и вы получите район к западу от озера Ханка”.
И вот перед нами повесть, герои которой, наступая в составе 1-й Краснознаменной армии, все время идут на самом острие самых ожесточенных боев в прошлой войне. На этом напряженном фоне и происходит наше знакомство с главными героями повести – Олегом Хуторенко, его отцом, побывавшим до этого в Китае, медсестрой Маришей, сержантом Ильиным, рядовым Яшей Рубинчиком.
Олег и Маша любят друг друга. Она кидается за ним в действующую армию и попадает в один из передовых отрядов армии, которой я имел честь командовать в той войне. У Олега Хуторенко своя дорога, свои испытания. За их судьбами мы следим от первой до последней страницы повести, встречаясь при этом не только с врагами, но и с друзьями нашими на китайской земле.
Автору – участнику войны с Японией – не надо было придумывать небылиц. Жизнь и смерть открылись ему такой стороной и в таком отчаянном единоборстве, что нужна была только память, оглядка. Впрочем, В. Шевченко не ограничился показом войны из солдатского окопа. В повести мы видим прошлую войну на Востоке в разных ракурсах: глазами наших и японских военачальников, советских солдат и японских смертников. Такое стремление к столь широкомасштабному охвату событий потребовало от автора, разумеется, опоры не только на собственную память.
На раздумья, которым не чужды заботы сегодняшнего дня, наводят меня также споры коммуниста Вана и торговца Фу, рассуждения бродячего философа-космополита Гоги, оторвавшегося от России да так и не прибившегося ни к какому берегу. Не случайно его спрашивает Ван:
“– Не пойму, борода, где у тебя бог, где черт?..
– Поймешь! Сейчас поймешь! – запальчиво пообещал Гога. – Нет ничего проще… Ведь истинно тебе признаюсь: не верю и никогда не верил в бескорыстие победителей. Никогда! Подобно мудрецу Мир Амману, я всегда повторял вслед за ним: «Видел отшельника с отросшими ногтями, йога, распростертого в пыли, храбреца, смотревшего прямо в лицо гибели, глупца, мудреца, разбогатевшего подлеца… Лишь людей, лишенных жадности, не видел…» Но теперь… теперь угли воспылали в моей душе. Почему русские ничего не взяли в твоей деревне, Ван? Возможно ли, чтобы они умирали за вас только во имя идеи?”
Жизнь, казалось бы, давно ответила на этот вопрос, однако кое-кто еще и по сей день склонен недооценивать святую память о совместной борьбе наших великих народов за новый Китай. Одна из страниц этой памяти – разгром миллионной Квантунской армии, создание Маньчжурской революционной базы, а заодно и крах стратегического плана захвата Японией территории СССР от дальневосточных границ до Омска (план “Кантокуэн”).
Опираясь на пережитое и свидетельства очевидцев, автор пытается воскресить эту память. Его повесть, на мой взгляд, правдивая, нужная книга».

 г. Барнаул, ул. Молодежная, 5
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5